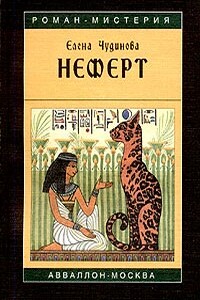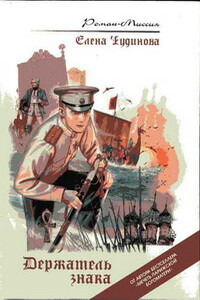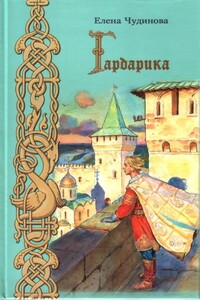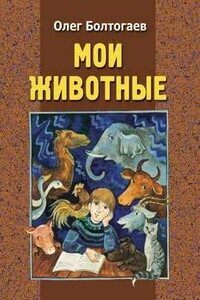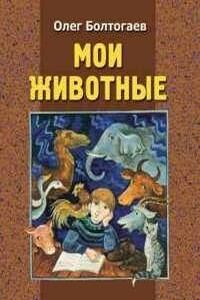— Сие для того, чтобы хорошо неслись куры, — с усмешкою шепнул Роскофу отец Модест, присоединяясь к общей молитве, что начинала тощая старуха в черном вдовьем плате.
— Звезда, звезда!! — закричали наперебой еще двое детей постарше, вбегая с улицы.
— Тихо вы, озорники, — хозяйка помоложе принялась тем не менее раздавать деревянные ложки.
Кушанье оказалось размоченным зерном, сильно подслащенным медом. Нелли кое-как проглотила две ложки, изрядно пожалев, что не постилась: отец Модест кушал с не меньшим аппетитом, чем Параша и хозяева.
— Как зовется село ваше? — ближе к концу трапезы спросил священник.
— Браслетово.
— Вот странное прозванье.
— Помню я, барин-сударик, как село зачалось, и отчего назвали, помню, — степенно начала старуха. — Сказ долог, так и в святой вечер сочельный работать грех.
— Расскажи, сударыня-хозяюшка, — подольстилась Параша.
— Люди мы здесь вольные, назад тому сто лет пришли целину подымать. Вестимо дело, сперва поближе к Ширье стояли, это Камы-реки приток. Девчонкою я была, так ничего на месте села нашего не было, кроме лесу. А был у нас вдовый кузнец, да у него дочка малая, Дашуткой звали. Подружками мы с ней были. Уж лелеял он ее с горюшка, баловал. И то сказать, кузнецы народ богатый. Все девчонки босые — Дашута в черевичках, все в лапотках — она в сапожках. А на девятые именины вынул отец из укладки потаенной слиточек серебра да выковал ей браслетик, здешними камешками прозрачными изукрасил. Уж она его не снимала, хоть и не падка была наряжаться. Тихонькая девка-то была, вроде блаженной. Бывало, сидит на лужке, не шевелится, покуда бабочка на руку ей не сядет. Цветы рвать на венки жалела, смеялись мы над ней. Беленька была, вроде тебя, — старуха кивнула на Парашу. — Только кузнец-то в тот же год взял да женился. Красивую взял, один изъян — глаза-то больно близко друг к дружке, навроде медвежьи. Вроде и не бивала падчерицу, да только кто бьет, тот зла не таит. Через год родила мачеха сынка, да назвала по-медвежьи, Михайлой. А кузнец вишь все хвастал, что приданое дочке справит, не хуже купца какого. Вот и стала мачеху жаба давить, что не все наследство сынку перейдет.
— Неужто извести захотела? — заинтересовалась Катя.
— Захотела, соколик. На то место, где село наше стоит, Дашута часто в лес одна гуляла-ходила. Ягоды она плохо брала, бывало, полкузовка зеленухи наберет. Раз вечор воротились все девки с ягодами, а Дашутки нету. Всю ночь искали-аукали, с огнями по лесу бродили, да попусту. Мачеха больше всех убивалась, волки, мол, унесли девчонку. Так с тех пор о ней и не слыхали. Село-то росло меж тем, стали взрослые сыновья отделяться на свои наделы, землицы всем не хватало. Надобно дальше лес жечь-рубить. Я уж трех деток родила да двух схоронила, когда тут село зачали ставить. Глядят мужики на вырубке — стоит рябинка молоденькая, а в ствол вроде как блестящее что-то вросло. От мала до велика дивиться сбежались. Прибежала и старая вдовая кузнечиха. Здесь, говорит, небось падчерицу мою волки сгрызли, ее это браслетка. И велит сыну Михайле, руби рябину, нечего добру пропадать. Махнул Михайла топором да ударил по стволу. И тут из раны древесной как кровь-то руда потекла. Кузнечиха упала со страху наземь, да сама и призналась, что девку на сем месте убила да закопала. Так с тех пор и стоит село вокруг той рябинки, вроде как бережет она людей.
— А что с кузнечихой сталось? — не утерпела Параша.
— Ну, какие тут у нас судьи, — неопределенно отвечала старуха. — Ванюшка, ты себе ложкой весь мед загреб, думаешь не вижу? Кутью ешь по-честному!
Хозяйские дети, небось сто раз слыхавшие о девочке Дашутке, само собою, уделяли рассказу старой хозяйки куда меньше внимания, чем Нелли, Параша и Катя.
— И где ж эта рябина? — спросила Нелли нетерпеливо.
— Да прямо напротив церквы, касатик. Церква-то новая, даром что ветха, пяти десятков годов ей не будет.
В непривычной для крестьянского дома тишине все разобрались ко сну.
— Нету ли какого горя у этих людей, что они так не шумны? — спросил отца Модеста Роскоф.
— Обычай. Завтра здесь будет шуму достаточно, да мы, по щастью, уже отъедем, — шепотом отвечал священник.