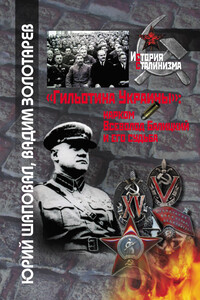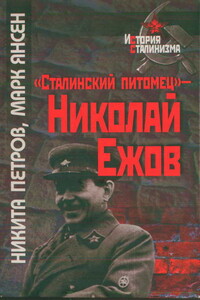Лапти сталинизма - страница 36
2. Восприятие крестьянством политической пропаганды в условиях сталинского неонэпа
Сталинский (колхозный) неонэп — понятие более чем условное. Им, как правило, обозначают легкое потепление политического режима по отношению к крестьянству, произошедшее в середине 1930-х годов. Разумеется, о каком-либо возвращении к принципам подлинного нэпа и рыночной экономики в это время говорить не приходится, тем не менее сам термин «неонэп» уже прочно прижился в исторической литературе и прежде всего — в работах И. Е. Зеленина[196]. По мнению ученого, неонэп был итогом четырех политических акций власти (совещание по вопросам коллективизации в Кремле 2 июля 1934 года; отмена карточной системы; II Всесоюзный съезд колхозников-ударников; принятие нового примерного устава сельхозартели) и явился своего рода компромиссом между государственной властью и основной массой крестьян-колхозни-ков. Вместе с тем неонэп был периодом усиления налогового пресса в отношении единоличников. В региональной историографии идеи о неонэпе были развиты архангельским историком С. И. Шубиным и его учеником — политологом С. И. Рыжковым[197]. Они вписывают феномен неонэпа в широкий ряд событий политической истории 1930-х годов. Смягчение политического курса, по их мнению, было следствием «критического осмысления «штурма социализма»». Однако ростки неонэповской политики, направленной на развитие хозяйственного и культурного состояния Северного края, оказались не востребованы в условиях функционирования тоталитарной системы. Поэтому курс на неонэп был вскоре свернут, а его подвижники на местах стали жертвами последовавших затем политических репрессий. Таким образом, сталинский неонэп» в российской и региональной историографии изучался, как правило, через призму государственной политики. Такой взгляд неполон, поэтому актуальным представляется посмотреть, доходили ли политические лозунги неонэпа до простых колхозников? Как они были восприняты последними? Действительно ли в лучшую сторону изменилась атмосфера в северной деревне?
Вопросы политической пропаганды довольно часто обсуждались на заседаниях бюро Севкрайкома ВКП(б) в 1935 году. Первое подобное обращение состоялось на заседании 7 января, в связи с подготовкой к празднованию XI годовщины со дня смерти В. И. Ленина. По этому случаю бюро Севкрайкома ВКП(б) постановило организовать серию докладов на тему «В. И. Ленин — организатор и вождь ВКП(б) и Коминтерна»[198]. Несколько агитационных решений бюро было связано с необходимостью решения хозяйственных задач. Одно из таких решений было направлено на борьбу с «контрреволюционной агитацией» на забой скота, другое разъясняло отмену карточной системы, третье пропагандировало среди масс цели, связанные с развитием «социалистического животноводства»[199]. Еще одной темой политической пропаганды, правда только по линии партийных структур, стало обсуждение закрытого письма ЦК ВКП(б) «Об уроках событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова». Акцент в нем прежде всего делался на повышении «революционной бдительности» партактива и необходимости искоренения из советского общества различного рода классовых врагов и двурушников[200].
Отдельная пропагандистская кампания была связана с разъяснением принятого на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников нового примерного устава сельхозартели, который на долгие годы предопределил типовую форму организации советского колхоза. В связи с этим Севкрайком ВКП(б) предписывал организовать трехдневную «поголовную читку» этого судьбоносного документа, который отныне должен был стать одновременно «Библией» и «Капиталом» для любого колхозника. Устав обсуждался на нескольких заседаниях бюро крайкома, его «проработка» даже стала частью пропагандистских акций, организованных по случаю празднования международного коммунистического женского дня 8 Марта