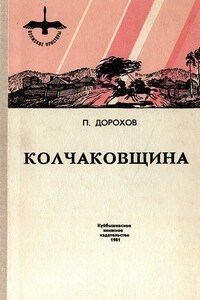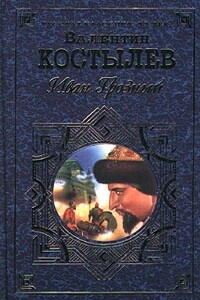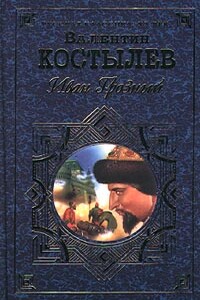Кузьма едва успевал уговаривать недовольных. Грозила новая междоусобица. Обещанные казакам четыреста возов остались не отбитыми, а впереди ничего не видно хорошего. На казаков напало уныние. Промокшие до костей в воде, полуголодные, утомленные прежним долгим стоянием под стенами Москвы, они начали падать духом.
Тогда Минин пришел в шатер к Пожарскому, сказав, что он сам попробует побороться с гетманским войском; не словами, а делом надо поднять дух в казачьем лагере.
— Хочу я сам попытать счастья в бою… Дай мне отряд воинов, и я с ними пойду на гетмана… — сказал Минин.
Пожарский ответил:
— Возьми кого хочешь… Но не будет ли хуже оттого?
— Лучше умереть, — ответил Минин, — нежели видеть такое неустройство. Ты князь… должен беречь себя. Не дай бог тебя убьют! А я… все равно!
Пожарский пробовал отговаривать Минина, доказывая, что и без него, Кузьмы, коли его убьют, войску будет худо. Но Минин настаивал на своем.
Он отобрал лучших воинов. Взял с собою удалого польского ротмистра, литвина Хмелевского, служившего честно русскому народу, и три сотни наиболее отличившихся в бою из дворянских полков. Пользуясь тем, что поляки, утомленные боями, расположились на отдых, не допуская мысли, что на них могут напасть, Минин быстро переправился со своими ратниками на Крымский берег Москвы-реки и с необычайною силой ударил в тыл на приготовившиеся ко сну польскую пехоту и конницу.
С противоположного берега Москвы-реки видно было, как Кузьма, громадный, без шлема, с развевающейся бородою, высоко подняв саблю, бурею несся по нагорью впереди своего отряда… Видно было, как его всадники, не страшась пуль, стройно, с копьями наперевес, скакали вслед за ним. Такого безумного наскока никак не ожидали поляки. Противники столкнулись грудь с грудью. Панская пехота разбежалась врассыпную под сокрушающим натиском нижегородцев. Конница поляков оказалась неподготовленною. Однако она все же вступила в бой. Стальным вихрем взлетели ее сабли над головами ополченцев, но и она стала подаваться назад. Кони уже вошли в реку, а нижегородцы продолжали наваливаться грузною, свирепою громадой на шляхетских воинов, давя, кроша их с неслыханною жестокостью. Часть польских всадников, которая находилась поодаль от воды, боясь также быть «втоптанной в реку», в ужасе бросилась к своему укреплению. Пришел конец тогда конникам, которых Кузьма вогнал в воду. Их расстреляли поодиночке. Покончив с ними, Кузьма опрометью погнался со своими воинами вдогонку за остатками конницы.
В лагере Хоткевича от неожиданности и стремительности удара ополченцев поднялась суматоха, и многие поляки бросились бежать куда глаза глядят. Особенно перепугались люди в обозах. Они перелезали через возы и врассыпную разбегались по полю.
В это время пехота нижегородцев, ранее посаженная во рвах и крапивниках, чтобы помешать панам в доставке продовольствия в Кремль, с боевыми криками выскочила на помощь Минину.
Сам храбрейший из храбрейших гетман Хоткевич в панике понесся на коне по полю, оставив обоз и шатры в добычу нижегородцам.
Победа на стороне Минина была полная. Казаки, изумленные бешеной храбростью нижегородского старосты, с радостью и огромным уважением приняли от него в дар отбитый у Хоткевича обоз. Имя Кузьмы Минина затмило имена подмосковных воевод.
Пожарский крепко обнял вернувшегося в лагерь своего соратника.
Он приказал пушкарям и стрельцам произвести «великую пальбу» по отступавшим войскам Хоткевича. Гаврилка постарался на славу. Стрельба по польскому стану продолжалась два часа. От грохота пушек не слышно было даже разговоров, и дым носился, «как от великого пожара». Разбитые нижегородцами поляки сначала отступили к Донскому монастырю, а затем и вовсе исчезли из-под Москвы.
Кузьма своею победою решил судьбу войска гордого гетмана. Лазутчики донесли, что Хоткевич «хребет показал», побежав по можайской дороге обратно к себе в Польшу.
После боя, снимая с себя броню и латы, Минин сказал с усталой улыбкой на лице:
— Побили многих наших, а меня и смерть не берет. Впереди всех был — и жив. Видать, Татьяна за меня усердно богу молится.