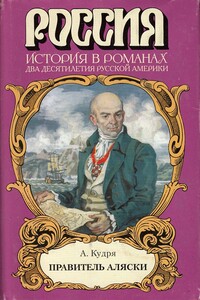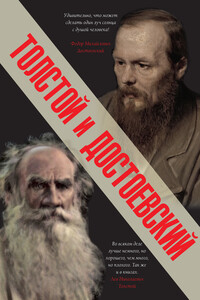Среди других художников, удостоенных воспроизведения в первых книжках журнала, — Левитан, Поленов, Серов, Левицкий…
Для Кустодиева и его коллег-академистов немалый интерес представляла и богатая информация, которую давал журнал о современной художественном жизни европейских стран, о проходящих там выставках и творчестве наиболее видных мастеров. При этом журнал явно придерживался курса к более тесной интеграции отечественного искусства с европейским, но на основе сохранения национальной самобытности.
«Настоящая русская натура слишком эластична, — говорилось в программной статье «Сложные вопросы», — чтобы сломиться под влиянием Запада… Вспомните искусство Пушкина, Тургенева, Толстого и Чайковского, — и вы заметите, что лишь тонкое знание и любовь к Европе помогли им выразить и наши избы, и наших богатырей, и неподдельную меланхолию нашей песни»[67].
Эстетические позиции журнала с его акцентом на поиски художниками красоты вызывали немалые споры в среде преподавателей и студентов академии. К подобным же всплескам прямо противоположных эмоций приводили и коротенькие журнальные «Заметки». Например, следующая: «У проф. В. Маковского спросили (см. «Петербургскую газету» № 304), нет ли у его учеников склонности к новаторству. Он на это ответил: “Нет, от этого Бог миловал”»[68].
Роман Кати с офицером Александром Вольницким завершился, как и положено, бракосочетанием, и летом 1899 года Борис с матерью Екатериной Прохоровной гостили у молодых в Батуме. Кустодиев много и успешно работает, пишет этюды — море, горы, горные речки, а также портреты — Вольницкого, сестры Кати и Екатерины Прохоровны. В процессе работы яснее, чем прежде, он видит изъяны академического образования и в письмах делится своими мыслями с товарищем по мастерской Репина Иваном Куликовым. Его угнетает, что, увлекаясь чисто живописными задачами, он теряет самое драгоценное — рисунок.
«Я, кажется, никогда так не мучился за работой, как теперь»[69], — признается Борис в одном из писем. Он задается вопросом: кто же виноват в том, что работа, прежде всего рисунок, не получается так, как хотелось бы? Не Репин же, в конце концов — он-то признанный мастер рисунка. И на вопрос, кто виноват, следует трезвый ответ: «Больше всего, кажется, мы сами. Не имея силы воли, чтобы систематически и серьезно отдаться изучению, мы начинаем выдумывать всякие причины нашего неуспеха, что вот, мол, и профессор плохо, не так к делу относится, и время такое теперь, и не понимают нас и т. д.»[70].
Решительно отметает он и утверждения некоторых коллег по мастерской Репина, успевших поучиться за границей, о преимуществах зарубежной системы преподавания — парижской школы Кормона или мюнхенской Ашбе. «Учиться, — полемизирует Кустодиев с Куликовым, — можно у всех — и у Репина, и у Кормона, и у Ашбе. Смущать, как ты пишешь, они не могут. Смущают те, кто от них приезжает со своими плохими рисунками да рассказами, что вот, мол, за границей свет, а у нас ничему этому никогда не научиться. — Да, побольше самому писать и изучать старинных мастеров и научиться у них любить искусство так же, как и они. Любин у нас мало»[71].
В последнем письме Куликову, отправленном из Батума, Кустодиев пишет, что летом он доволен, а вот собой — нет. «Как дело идет к концу, так видишь все свои недостатки и положительно с какой-то болью не можешь выносить своего этюда»[72]. Главный же урок неудач, по его мнению, в том, что ему недостает твердости характера, — любопытное признание для человека, который впоследствии, когда с ним случилась беда, поражал окружающих прежде всего своей силой воли.
В сентябре, прямо из Батума, Кустодиев едет по приглашению Куликова погостить на родине приятеля, в старинном Муроме. Вместе они бродят по городу, работают. Кустодиев пишет портрет друга — тот, в косоворотке, сидит на стуле с балалайкой в руках. Иван Куликов в свою очередь запечатлел коллегу полулежащим с книгой на диване.
Посещая библиотеку Академии художеств, Кустодиев нередко встречал там студента с большими оттопыренными ушами, довольно-таки нелепого вида. Как-то они разговорились и постепенно сблизились. Дмитрий Стеллецкий — так звали нового знакомого — изучал в академии скульптуру, был влюблен в старую, допетровскую Русь и в тех далеких временах искал для себя источник вдохновения. Родом Дмитрий был из Белоруссии, где у его отца было имение недалеко от Беловежской Пущи.