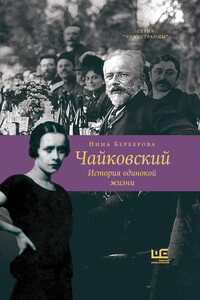Иногда - раз в год приблизительно - Роллан присылал Горькому свою фотографию. Перевести на русский язык надписи, которые он на них делал, было еще труднее, чем его письма. Мы это делали все вместе, собравшись в комнате Максима. Максим по всегдашней своей привычке в раздумье ел свою нижнюю губу.
Первая "немецкая" зима сменилась второй - хоть и в Чехии протекала она, но в самом немецком ее углу, в мертвом, заколоченном не в сезон Мариенбаде. Мы поехали туда за Горьким из Праги. И тут уже прекратились всякие наезды - своих и чужих, - в полном одиночестве, окруженный только семьей или людьми, считавшимися ее членами, Горький погрузился в работу: в то время он писал "Дело Артамоновых".
Он вставал в девятом часу и один, пока все спали, пил утренний кофе и глотал два яйца. До часу мы его не видели.
Зима была снежной, улицы были в сугробах. Гулять выходили в шубах и валенках, все вместе, уже в сумерках (после завтрака Горький обыкновенно писал письма или читал). По снегу шли в сосновый лес, в гору. Где-то в трех километрах происходили лыжные состязания, гремела музыка, туда мчались фотографы, журналисты. Мы ничего этого не видели. С ноября месяца в городе начались приготовления к рождеству, и мы тоже затеяли елку. Развлечений было немно-го, а Горький их любил, особенно когда усиленно работал и ему хотелось перебить мысли чем-нибудь легким, нескучным. Елка удалась настоящая, с подарками (у меня до сих пор цела шкатулка кипарисового дерева с инкрустациями), шарадами, даже граммофоном, откуда-то добытым. Но главным развлечением той зимы был кинематограф.
Один раз в неделю, по субботам, за ужином, Горький делал хитрое лицо и осведомлялся, не слишком ли на дворе холодно. Это значило, что сегодня мы поедем в кинематограф. Сейчас же посылали за извозчиком - кинематограф был на другом конце города. Никто не любопытство-вал, что за фильм идет, хороший ли, стоит ли ехать. Все бежали наверх одеваться, кутались во все, что было теплого, если была метель; и вот парные широкие сани стоят у крыльца гостиницы "Максхоф" (а не Саварин, как сказано в Краткой литературной энциклопедии), мы садимся - все семеро: М.И.Будберг и Горький на заднее сиденье, Ходасевич и Ракицкий на переднее, Н.А. (по прозванию Тимоша, жена Максима) и я - на колени, Максим - на козлы, рядом с кучером. Это называется "выезд пожарной команды".
Лошади несли нас по пустым улицам, бубенчики звенели, фонари сверкали на оглоблях, холодный ветер резал лицо. Езды было минут двадцать. В кино нас встречали с почетом - кроме нас, почти никого и не бывало. Мы, совершенно счастливые и довольные, садились в ряд, и все равно было, что нынче показывают: "Последний день Помпеи", "Двух сироток" или Макса Линдера - на обратном пути нам было так же весело, как и на пути туда.
В ту зиму (1923-1924 года) все постепенно отступило перед работой. "Дело Артамоновых" подвигалось, разрасталось, захватывало Горького все сильней и постепенно оттесняло все другое, и даже померк его интерес к собственному журналу ("Беседе") - попытке сочетать эмигрантскую и советскую литературу, из которой ничего не вышло. Работа не давала Горькому увидеть, что, в сущности, он остается один на один с самим собой, никого не объединив. Он ждал визу в Италию. Она пришла весной, с точным указанием не поселяться на Капри (где его присутствие могло возбудить какие-то смутные политические страсти, по прежним воспоминаниям), и Горький переехал в Сорренто - последнее место его заграничного житья(отсюда в 1928 г он поехал в СССР, а 17 мая 1933 г переехал туда окончательно). Осенью 1924 года мы последовали за ним.
Последнее место его независимости, его свободной работы над тем, что ему хотелось писать. Ленина больше не было. Его воспоминания об "Ильиче" были первым шагом к примирению с теми, кто был сейчас на верху власти в Москве. "Он поедет туда очень скоро, - сказала я как-то Ходасевичу. - В сущности, даже непонятно, почему он до сих пор не уехал туда". Но Ходасе-вич не был согласен со мной: ему казалось, что Горький не сможет "переварить" режима, что его удержит глубокая привязанность к старым принципам свободы и достоинства человека. Он не верил в успех тех, кто в окружении Горького работал на его возвращение, мне же казалось, что это случится скорее, чем они предполагают. Сорренто оказалось последним местом, где он мог писать иногда "несозвучно" и говорить вслух, что думает, и последнее место, куда он приехал относительно здоровым, тут, на берегу моря, в доме, из которого был виден Неаполи-танский залив, с Везувием и Искией, я впервые увидела его в болезни - и эта болезнь сильно состарила его.