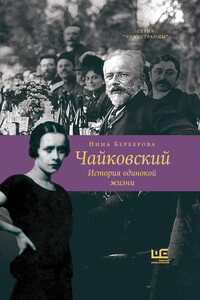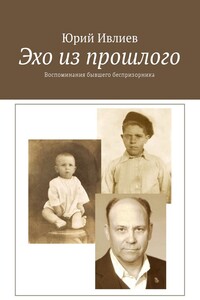30 июня 1922 года мы приехали в Берлин. Белый уехал в Цоссен 3 июля и перед своим отъездом один раз был и не застал, а потом только забежал на полчаса проститься, сказав, что вернется в Берлин в сентябре. Я его не видела. Когда я вернулась домой, вся комната была в пепле, окурки были натыканы в чернильницу, в мыльницу, пепельницы были полны, и Ходасевич сказал, что в ту минуту, когда Белый вошел в дверь, - все кругом преобразилось. Он нес с собой эту способность преображения. А когда он ушел, все опять стало, как было: стол - столом и кресло - креслом. Он принес и унес что-то, чего никто другой не имел. И я до 11 сентября ждала Белого. 11 сентября он опять появился в Берлине. В Берлине Ходасевича ждало письмо Горького. Он выехал к Горькому в Херингсдорф сейчас же, как приехал, и провел там два дня. Замелькали дни: 4 июля - первая встреча с Шкловским за границей, 5-го - первая встреча с Цветаевой, 21-го - с Эренбургом. 18 августа Ал.Н.Толстой читал публично свою комедию "Любовь - книга золотая" (в этот день Ходасевич отправил Мариэтте Шагинян длинное письмо). 27 августа мы оба на три дня уехали к Горькому, 1 сентября был литературный вечер в кафе Ландграф (первая моя встреча с Пастернаком), 8-го - опять кафе Ландграф: Пастернак, Эренбург, Шкловский, Зайцев, Муратов и другие. 11-го возвращение Белого. 15-го - опять Ландграф, где Ходасевич читал свои стихи. 22-го приходила к нам Нина Петровская. 24-го вечером - в Прагер Диле на Прагер-платц - около пятнадцати человек составили столики в кафе (Пастернак, Эренбург, Шкловский, Цветаева, Белый...). 25-го, 26-го, 27-го приходил к нам Пастернак. 26-го вечером мы все (с Белым) были на "Покрывале Пьеретты" (пантомима А.Шницлера с Чабровым, гениальным Арлекином; через пять лет он стал монахом католического монастыря в Бельгии). 1 октября вечер в честь Горького(25 сентября исполнилось тридцать лет его литературной деятельности). 10-го - первое появление у нас В.В.Вейдле, тоненького, светловолосого, скромного. 17-го и 18-го - опять Пастернак и Белый, с ними в кафе, где толпа народу, среди них - Лидии и Маяковский. 27-го - доклад Шкловского в кафе Ландграф, 3 ноября - доклад Ивана Пуни. 4-го - Муратов и Белый у нас. 10-го - я в Ландграфе читаю стихи. 11-го Пастернак, Муратов и Белый у нас - а в скобках приписано "как каждый день". Так идут день за днем краткие записи Ходасевича. И отдельный к ним листок: "Встречи с Белым":
"1922 г. БЕРЛИН,
июль: 1, 3 (2 раза)
август: 8 (1)
сентябрь: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 (15)
октябрь: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 (20)
ноябрь: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 (10)
СААРОВ.
ноябрь: 23, 24, 25 (3)
декабрь: 6, 7, 8, 9, 13, 31 (6)
1923. СААРОВ.
январь: 1,2, 10 (3)
февраль: 1, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 (9)
март: 1, 16, 17, 18, 19,20,21 (7)
май: 9, 15, 18, 22, 23 (5)
БЕРЛИН.
июль: 1,4,5,6,8,11 (6)
ПРЕРОВ.
август: 14-27 (14)
БЕРЛИН.
август: 30, 31 (2)
сентябрь: 3, 4, 5, 6, 7, 8 (6)".
Андрей Белый был в тот период своей жизни - 1921-1923 годы - в глубоком кризисе. Будучи со дня своего рождения "сыном своей матери", но не "сыном своего отца", он провел всю свою молодость в поисках отца, и отца он нашел в антропософе Рудольфе Штейнере, перед первой мировой войной. Вернувшись на Запад в 1921 году, после голодных лет военного коммунизма, он встал перед трагическим фактом: Штейнер отверг его, и Белый, потрясенный раскрывшимся перед ним одиночеством, возвращенный в свою исконную беззащитность, не мог ни преодолеть их, ни вырасти из них, ни примириться с ними. Причины, по которым Штейнер отверг его, ясны тем, кто близко знал Белого в эти годы в Германии. Одновременно Белый, после пяти лет жизни в России, не вернул и ту, которая - он думал - автоматически вернется и которая, после его неудачной любви к Л.Д.Блок, казалась ему якорем спасения, - но которая никогда не собиралась им быть. Его пьянство, его многоречивость, его жалобы, его бессмыслен-ное и безысходное мучение делало его временами невменяемым. Поправить можно было все только изнутри, в себе самом, как это почти всегда (не всегда ли?) бывает в жизни. Он, однако, жил в надежде, что переменятся обстоятельства, что та, которая не вернулась, каким-то образом "поймет" и вернется, и что тот, который отверг его, вновь примет его в лоно антропософии. Белый не видел себя, не понимал себя, не знал ("жизнь прожить не сумел"), не умея разрешить ни этого кризиса, ни всей трагической ситуации своей, требуя от окружающего и судьбы для себя "сладкого кусочка", а его не могло быть, как не может быть его у тех, кто хоть и остро смотрит вокруг, но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не слыша хода времени и полагая в своем безумии, что "мамочку" он найдет в любой женщине, а "папочку" - в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кругом становились все безжалостнее, и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Безжалостное в людях нашего времени началось еще в 80-90-х годах прошлого века, когда Стриндберг писал свою "Исповедь глупца" - там можно найти некоторые ответы на двуострую драму Андрея Белого. "Пожалейте меня!" - но никто уже не умел, да и не хотел жалеть. Слово "жалость" доживало свои последние годы, недаром на многих языках это слово теперь применяется только в обидном, унижающем человека смысле: с обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады - на немецком, с обертоном иронического недоброжелательства - на английском. От "пожалейте меня!", сказанного в слезах, до удара громадным кулаком по столу: "проклинаю всех!" - он почти каждый вечер проходил всю гамму своего отношения к людям, в полубреду, который он называл "перерывом сознания". Я видела его однажды играющим на старом пианино "Карнавал" Шумана. Никто не слушал его, все были заняты своим, собой, то есть "свирепейшей имманенцией". На следующий день он не поверил мне, когда я сказала, что он играл Шумана, а я с удовольствием слушала его, - он ничего не помнил. В другой вечер он два раза рассказал Ходасевичу и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей любви к Л.Д.Блок и свою ссору с А.А.Блоком, и, когда, без передышки, начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. В ту ночь Белый шумно ломился в дверь ко мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич, в холодном поту, шепотом умолял меня не открывать, не отвечать он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не имеющий, в сущности, ни смысла, ни конца рассказ.