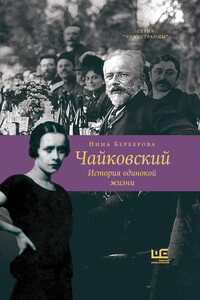У Иды была квартира на седьмом этаже на Невском, почти на углу Литейного. Это был огромный чердак, половину которого занимала фотографическая студия ее отца. Там кто-то осенью 1921 года пролил воду, и она замерзла, так что всю ту зиму посреди студии был каток. В квартире жили отец, сестры и братья Иды, маленькие и большие, и там было уютно, и была мама, как говорила Ида, "настоящая мама" - толстая, добрая, всегда улыбающаяся, гостеприимная и тихая. Первую комнату от входа решено было отдать под "понедельники" (в память Гумилева и его понедельничной студии "Звучащая раковина"). Тут должны были собираться поэты и их друзья для чтения и обсуждения стихов. Два незанавешенных окна смотрели на крыши Невского проспекта и Троицкой улицы. В комнату поставили рояль, диваны, табуреты, стулья, ящики и "настоящую" печурку, а на пол положили кем-то пожертвованный ковер. Здесь вплоть до весны собирались мы раз в неделю. Огромный эмалированный чайник кипел на печке, в кружки и стаканы наливался "чай", каждому давался ломоть черного хлеба. Ахматова ела этот хлеб, и Сологуб, и Кузмин, и мы все, после того как читали "по кругу" стихи. А весной, когда стало тепло, пили обыкновенную воду и выходили через окна на узкий "балкон", то есть на узкий край крыши, и, стараясь не смотреть вниз, сидели там, когда бывало тесно в комнате. Собиралось иногда человек двадцать - двадцать пять.
- Кто придет сегодня? - спрашивала я, расставляя табуреты, пока Николай Чуковский старался забить в стену гвоздь, а Лев Лунц и Ида по очереди дули в печку, где шипели сырые дрова. Сюда приходили боги и полубоги. Сначала появились Радловы, Николай и Сергей, потом Н.Н.Евреинов, потом М.Кузмин, Корней Чуковский, М.Лозинский, молодые члены "Серапионова братства" - Зощенко, Федин, Каверин, Тихонов (кооптированный в тот год в "Серапионы"). В октябре пришла Ахматова, а за ней - Сологуб. Приходили не раз Е.Замятин и Ю.Верховский, а А.Волынский и В.Пяст (друг Блока) стали частыми гостями. И, конечно, вся "Раковина" и Цех (Г.Иванов, Г.Адамович, Н.Оцуп). Бывали Валентин Кривич (сын Иннокентия Анненского), Всеволод Рождественский, Бенедикт Лившиц, Надежда Павлович, А.Оношкович (переводчица Киплинга), с которой я сидела рядом в семинаре Лозинского.
С Николаем Чуковским мы виделись теперь почти ежедневно. После лекций в Зубовском институте я обыкновенно заходила в Дом Искусств, где он поджидал меня. Ему было 17 лет, мне только что исполнилось 20. Я называла его по имени, он меня - по имени и отчеству, иногда нежно прибавляя "голубушка". Это был талантливый и милый человек, вернее - мальчик, толстый, черноволосый, живой. Популярность его отца несколько смущала его, он хотел придумать себе псевдоним, чтобы его не смешивали с Корнеем Ивановичем. Ранние его стихи и поэма "Козленок" (позже напечатанная в "Беседе") подписаны Н.Радищев. "Ведь настоящее имя Корнея Ивановича Николай Корнейчук, пояснял он мне, так что я ведь даже не Николай Корнеевич, а Николай Николаевич. И фамилии собственной у меня не имеется".
Мы вместе ходили в концерты, в дом Мурузи, в студию Корнея Ивановича. "Голубушка, - говорил мне Николай Чуковский, - бросьте ваш институт, переходите в университет. Там Жирмунский. Будем туда вместе ходить в будущем году". Но я, как мне ни хотелось слушать Жирмунского, не соблазнялась и твердо решила оставаться в Зубовском.
"Серапионовы братья" собирались в том же Доме Искусств, в комнате Михаила Слонимского. Это был второй год существования кружка. Они больше уже не слушали лекций в студиях Замятина и Шкловского - кое-кто был в университете (Каверин, Лунц), кое-кто уже печатался в журналах и даже выпускал книги (Зощенко, Федин, Вс.Иванов). Груздев работал над биографией Горького. Полгода тому назад они выпустили коллективный сборник (первый; второй вышел в 1922 году в Берлине и в России, видимо, издан не был). Часть из них была заворожена Ремизовым, другая - Шкловским. Зощенко, смуглый, серьезный, с большими темными глазами, лежал посреди комнаты на трех стульях; говорили, что он отравлен газами. Приходили три-четыре девицы, ничего не писавшие, но дружившие с Никитиным, Лунцем и Фединым. Комната была тесная, прокуренная, темная. Бывало очень шумно, но, когда кто-нибудь читал свое, слушали внимательно и обсуждали умно. Только в самом конце зимы (1922 года) появились первые, еще едва заметные, признаки будущего распада - они шли от Ник. Никитина и Вс. Иванова, - Лунц, Слонимский, Каверин, Федин до самого конца оставались верными кружку. Но распад был в порядке вещей: все постепенно созрели литературно и обосабливались по линии "литературной политики", в которой были далеко не единогласны.