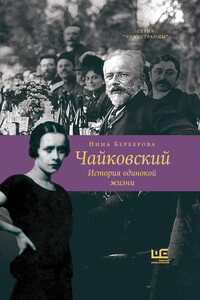О, город мой неуловимый.
Зачем над бездной ты возник?
Телеги теперь гремели по площади. Люди шли - чужие люди, прежних не было, должно быть, вовсе. Люди начинали жить заново, стояли белые ночи - я забыла, что они бывают; а царь моих предков все сидел на своей толстой кляче, и шел трамвай, увешанный людьми: он шел в конец Суворовского, мимо Песков.
О, город мой неуловимый,
Зачем?
Я потрогала рукой выступ у вокзального крыльца. Мне показалось, что ничего во мне не готово к этой встрече, к этому несказанному счастью возвращения.
О, город мой!
Он принадлежал мне когда-то и был отнят, и я даже каким-то необъяснимым образом примирилась с тем, что я лишилась его. Мне не нужны были его светлые июньские вечера и его туманные площади, я могла жить без Медного всадника, без Невы, без Пушкина, без Блока, без истории, без мифа. Бедному Лазарю в проказе и парше сейчас бросался судьбой первый кусок за столько времени! И я стояла, все преображенная, на ступенях Николаевского вокзала, трепеща при мысли, что завтра я всего коснусь опять, возрождаясь из своей духовной нищеты, словно опять касаясь судьбы моей родины, ран моего города, воскресая к бытию не изо дня в день, но из века в век.
Сестра моей матери и Женя, ее дочь (первая женщина, окончившая Технологический институт и через год покончившая с собой от неудачной любви), жили тогда за Таврическим садом, и из окон их квартиры был виден Смольный и та сторона города, которая была мне неизвестна. Часы были переставлены на три с половиной часа вперед: когда я легла, солнце еще гуляло по комнатам, а когда я проснулась, оно опять было высоко в небе, и опять в окне был Смольный и вокруг меня стоял город, мой город, возвращенный мне, которому я теперь опять принадлежала, несмотря на то, что в том отделе, куда мы пошли регистрироваться, никак не хотели понять, что мы приехали "насовсем", и, кажется, хотели направить нас в Петрозаводск. Заполнение анкет взяло два полных дня. Мне хотелось кричать: это я! Неужели вы меня не узнаете? Посмотрите на меня! Наконец мы получили прописку, продовольственные карточки последней категории, право на жилплощадь... Но весь город был теперь моей жилплощадью, что мне было до девяти квадратных метров! И Летний сад, и набережная, и арка на Галерной, и тот поворот Мойки у Конюшенной, который, как поворот милого лица, я узнала, волнуясь.
Я ходила по городу, я сидела в садах, трогала камни, стояла у Ростральной колонны, была в гавани, на Крестовском, на кладбищах, заново узнавала перекрестки, научалась по-новому видеть забытое. Как не похожи были эти прогулки на мое московское "шлянье"! В желудке бурчало по-прежнему, но там я была всему чужой, ненужной, несчастной, а здесь я была богата тем, что город был моим, и все мое спасение - как я тогда понимала - было прилепиться к нему, держаться за него: за Таврический сад, который я не могла миновать, куда бы ни ходила, за Чернышев мост с его цепями и Театральной улицей, за тихие линии Васильевского острова, где против знакомого дома фан-дер-Флитов росла теперь трава и чья-то коза паслась, тряся выменем.
В полночь (когда на самом деле было всего половина девятого) солнце высоко стояло в небе, а надо было ложиться спать. Мы поселились в коммунальной квартире, когда-то принадлежавшей потомкам Глинки, заняли две комнаты, и, пока было тепло, у меня была своя комната. Потомки Глинки тоже жили в двух комнатах, а остальные две занимали лица без речей. Но дома я бывала мало. Отец и мать поступили на службу, а я подала бумаги в Институт истории искусств, бывший Зубовский, на Сенатской площади. Наступил июль.
Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей, в тишине сонных улиц (извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало) редкие прохожие не спеша проходили, осунувшиеся, оборванные. Дома рушились, двери и паркеты ночью уносились соседями, прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на Манежный был забит - ходили через Кирочную. Но какой-то проблеск начинался на Невском, и в угловой лавке, где вчера еще окна были разбиты и заколочены досками, вдруг стало возможным купить сдобную булку, цветок, книгу - старую, извлеченную из пыльного подвала, или новую - вышедшую только что.