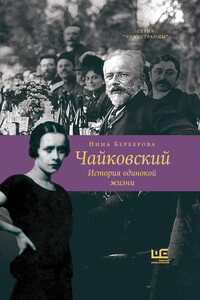Тогда, в 1924 году, он еще жил в большой квартире на Шан-де-Марс, к дочерям его ходили учителя, французские и русские, на кухне, с папироской во рту, стояла у плиты бывшая смолянка, а в столовой с утра до поздней ночи ели, пили, спорили и хохотали присяжный поверенный Маргулиес, поэт Черняховский, Семен Юшкевич, эсеры, эсдеки, поэты, нахлебники всякого рода, балетная молодежь студии балерины Преображенской, бывшие великие князья, артисты бывших императорских театров, опереточные певцы, художники с именем, художники без имени, кабаретные певички, приезжие из Одессы безработные журналисты, приезжие из Киева безработные антрепренеры всевозможные шумные полуголодные бездельники.
В первый же вечер он повез нас в Балль Табарен, на канкан. Билеты во все театры стопкой лежали в столовой на буфете - кто хотел, тот брал. Поселили нас с Ходасевичем на седьмом этаже, в так называемой комнате для прислуги, под крышей, всю комнату занимала огромная, не двухспальная, а трехспальная кровать. В окно была видна Эйфелева башня и сумрачное париж-ское небо, серо-черное. Внизу шли угрюмые дымные поезда (тогда еще существовала там железная дорога). На следующий вечер был балет в театре Шан-з-Элизе, потом - ночь на Монмартре. А на третий день я нашла квартиру, вернее - комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай, почти наискось от "Ротонды". Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела в кухне у стола и смотрела в окно. Вечером мы оба шли в "Ротонду". И "Ротонда" была тогда еще чужая, и кухня, где я иногда писала стихи, и все вообще кругом. Денег не было вовсе. Когда кто-нибудь приходил, я бегала в булочную на угол, покупала два пирожка и разрезала их пополам. Гости из деликатности до них не дотрагивались.
То зеркало в фойе театра Шан-з-Элизе, в котором я отразилась в антракте, в тот вечер балета, все еще цело. Я много раз смотрела в него - в вечера спектаклей Дягилева, Анны Павловой, Шаляпина, в вечера "Габимы", в вечера гастролей МХТа (1937 года). Оно висит у лестницы, направо, и в нем долго видишь себя, когда идешь по направлению к нему. Там, в глубине этого зеркала, я вижу себя в тот первый вечер, мое сине-голубое платье, с белыми кружевами, по тогдашней моде без рукавов и без талии, ноги в лакированных туфлях, узел волос на затылке, худые руки. Рядом со мной - Ходасевич. Сейчас будут три удара. Немчинова и Долин вылетят на сцену. Я увижу "Свадебку", я увижу "Весну священную". Худенький, стройный, все в том же перелицованном пиджаке (или, может быть, взятом напрокат смокинге?), Ходасевич берет меня под руку и ведет в зал.
Мы с ним ходим теперь по городу. Лето. Жарко. Деваться некуда. Мы ходим вечерами или даже ночами, когда город медленно остывает, затихает, словно вытягивается, как зверь перед тем, как положить одно ухо на лапу и полузакрыть громадный огненный глаз. Жадность увидеть этот город в его прошлом и настоящем постепенно обуревает нас. Мы ходим по узким и дурно пахнущим переулкам Монмартра, сидим в кафе Монпарнаса, мы идем в публичный дом на улицу Блондель, в танцульку на улицу де Лапп, мы проводим полночи где-то за путями железной дороги, где китайцы ловят нас за руки и зовут куда-то в подвал, дыша на нас странным незнакомым запахом. Мы ходим в маленькие театрики "варьете", где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны, на ярмарки, где показывают гермафродита, сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины и где, опять же за пятак, можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них "наверх". "Румяный хахаль в шапокляке" и "тонколягая комета" - все это было увидено тогда на улице Гете.
И музеи, и сады. И набережные. Вдвоем и в одиночку мы бродим.
Кое-кто из берлинских и московских друзей уже вел здесь в это время оседлую жизнь, на которую мы все еще не смели решиться. Зайцевы раскинули свой добротный быт, бедный, но прочный; Цетлины, еще до войны имевшие в Париже квартиру, обрастали мирным семейным уютом. В редакции "Последних новостей" было тесно и грязно, но уже чувствовалась прочность этого, вначале зыбкого, начинания. На улице Винез, в небольшой комнате с портретом "бабуш-ки" Брешко-Брешковской на стене, обосновалась редакция "Современных записок". Журнал в это время печатал много Гребенщикова и Минцлова, полагая, что это пригодится для будущей России. Постепенно картина "русского Парижа" стала для нас проясняться: "правые" держались больше вокруг православной церкви (где молились), русских ресторанов (где подавали) и завода Рено (где работали рабочими), иначе говоря - доблестное войско Деникина и Врангеля продолжало вести себя доблестно: работало в поте лица, рожало детей, оплакивало прошлое и участвовало в военных парадах у могилы Неизвестного солдата. Затем были "левые", одним из центров которых был Эренбург, окруженный всевозможными бездомными фигурами, талантли-выми и растерянными, среди которых был Борис Поплавский, поэт Валентин Парнах (брат забытой поэтессы Софии Парнок, умершей в Москве в 1933 году), и будущие модные художни-ки: Терешкович, Челищев, Ланской, и поэт Борис Божнев, один из замечательных поэтов моего поколения, сошедший на нет в тридцатых годах из-за тяжелой душевной болезни. Все были слегка недокормлены, не вполне знали, что будут делать завтра, как и где жить, больше сидели в кафе за чашкой кофе, многие недоучились, иные воевали (на чьей стороне - неизвестно) и теперь наверстывали кто что мог в послевоенной пестроте парижских литературных и художественных течений.