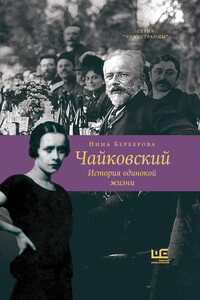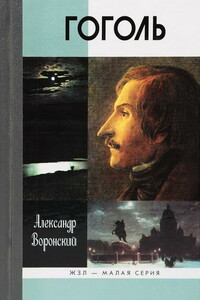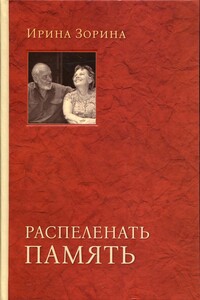Пространства и пустынность я увидела во всей их мощи, когда по прямой черте, словно проведенной линейкой, я выехала из Вашингтона в Колорадо, перемахнув через зеленые холмы Мериленда, через хлебные поля Канзаса. "Канзас скучен, предупреждали меня, - шесть часов вы катите по прямой, и все одно и то же". Шесть с половиной часов надо мной в Канзасе было небо, какого я никогда в жизни не видела: оно занимало все видимое пространство, а земля была только корочкой, слабой поддержкой его, совершенно двухмерной плоскостью, не имевшей никакой толщины. По четырем углам этого огромного неба стояли гигантские облачные обезья-ньи Лаокооны, упираясь в землю, встречаясь головами в центре небесного купола (а там, между ними, кувыркались толстенькие купидоны Буше); так стояли тициановские приматы-великаны и змеи, обвившие их в облачной борьбе. Шесть с половиной часов они не шелохнулись, словно ни ветер, ни солнце их не касались, и я все четыреста миль смотрела на них, как будто тоже стояла на одном месте. Я вспомнила тогда, как однажды при мне был разговор; один человек сказал другому: "Вы понимаете, что значит жить в Оклахоме? Это - дыра. Это провинция. Там живому человеку - смерть от скуки". И другой ответил на это: "Я однажды, знаете, в Оклахоме видел такой закат, какой нигде никогда не видел". И теперь в Канзасе я поняла, что в этих местах можно увидеть вещи, которых нигде в другом месте не увидишь.
На границе Канзаса и Колорадо, там, где кончаются пшеничные и кукурузные поля и начинается песок и камень, и пейзаж (и небо) меняется, навстречу мне с запада пришла гроза, вернее, три грозы сразу, которые лучами расходились из одной точки, прямо передо мной, то подбегая ко мне молниями, то убегая от меня. В дрожавшую от громов землю втыкались один за другим огненные столбы, искаженные дрожью, и автомобиль, двигаясь на тормозе среди этого грохота, и проливного дождя, и внезапного мрака, прорезанного голубым светом мельканий, как бы плыл по воде, качаясь туда и сюда, пока не остановился.
Названия городов в Колорадо собьют с толку любого этнографа: индейские, немецкие, испанские, английские, они следуют один за другим, пока я подымаюсь все выше в горы, города современные, и города заброшенные, и города, из заброшенных ставшие вдруг современными, где провели дороги, отстроили гостиницы, открыли магазины и есть даже ресторанчик, где обедают бородатые художники со своими подругами. Здесь Скалистые горы подступают вплотную, и я начинаю подниматься туда, где уже не будет ни мощеных дорог, ни телефонных столбов, ни стрельчатых антенн телевизоров, потому что не будет ни электричества, ни телефона. Одни форели.
Поздно вечером машина наконец подходит к водному резервуару, к истокам Рио-Гранде. Здесь на карте - белое пятно. Ни почты, ни аптеки, ни бензозаправочной станции. У шумящей реки - бревенчатые избы, и в них скамейки, стол, кое-какие кровати, керосиновая лампа и печь. Мы будем целый месяц есть форели из речки - утром, днем и вечером - и будем ночами топить печку. И однажды на рассвете я увижу снег (в начале июля).
Форели розовые, форели сиреневые - здесь у нас в речке, под домом; форели радужные - в том озере, что лежит в форме сердца еще выше нас, а мы живем на высоте десяти тысяч футов. Там, на самом верху Скалистых гор, живет человек, у которого сорок пять лошадей и три жены (мексиканочки, мал мала меньше). Он никогда не был даже в Чикаго, и Нью-Йорк его не интересует, как не интересуют ни Пекин, ни Капштадт.
Мы приехали вечером, и я бросилась в постель, под перину. Уже засыпая, я почувствовала, что под подушкой у меня кто-то есть живой, кто скребется у меня под самым ухом, но не было сил снова зажигать свечу и выпускать на волю неизвестного зверя. Он был - это я чувствовала щекой и ухом маленький и веселый, и по тому, как шебаршил, мне казалось, что это не был мышонок, в котором всегда бывает что-то уныло-упрямое: прогрызу или помру! - что-то упорное, однообразное в самом звуке его "грыза". Здесь кто-то играл под моей подушкой, стараясь обследовать пространство вокруг моей головы. И я заснула в изнеможении, решив, что съесть он все равно меня не может.