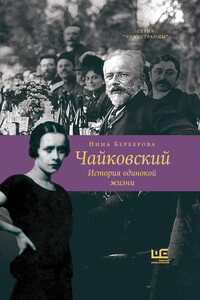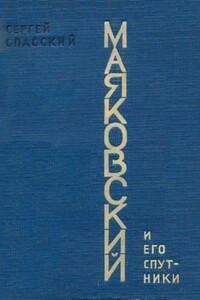Да, таков был один из тех людей, среди которых в конце 1940-х годов я жила, из эпохи войны перейдя в мою последнюю парижскую эпоху. В истории со шпулькой не то было страшно, что она сломалась, а то, какой катастрофой явился мне этот факт. Теперь с людьми было в этом же роде: вопрос был не в том, что никого кругом не было, а в том, что в конечном счете никого и не хотелось из тех, кого можно было бы найти.
- Но ведь ты же уцелела! - закричала мне с неожиданной силой молодая женщина, приехавшая из Лондона в Париж, племянница погибшей Оли, одна живая из всей огромной семьи. - Для чего-нибудь же ты уцелела?
(В одну десятую доли секунды не мелькнула ли во мне тогда мысль написать эту книгу? Не знаю. Может быть.)
Я молча смотрела на нее: все эти последние дни после ее телеграммы я волновалась, как встречу ее, что скажу ей о всех ее погибших близких, и вот она тут, радуется встрече со мной, показывает фотографии сына, говорит о настоящем, о будущем.
- То - все прошлое. Теперь надо жить. У меня сын. Будет и дочка, непременно. Ты сделала так, что я спаслась (действительно, перед войной я ее случайно познакомила с ее будущим тестем). И теперь ты должна жить так, будто одна на всем свете уцелела. Никого нет, все погибли. У тебя - как у меня. А мы с тобой живы.
В 1937 году случилось так, что она, благодаря замужеству и отъезду в Англию, не вернулась из Парижа в Варшаву, где погибла вся ее семья. Сейчас она мне протягивает руку помощи.
- А что там! - спрашиваю я. Уцелеет там хоть один?
- Непременно уцелеет, чтобы рассказать. Увидишь. Может быть Пастернак, может быть Эренбург.
Это что-то напомнило мне. Я нашла на полке один из томов "Замогильных записок" Шатобриана и показала ей место про Нерона, буйствующего в Риме, когда Тацит уже родился.
- Вот видишь, сказала она, пряча фотографии сына и мужа в сумочку, всегда так было, и так будет и теперь.
В тот год (1948) вышла моя книга повестей. Меня всю жизнь издавали издатели, а тут при всеобщем развале мне пришлось издать книгу в "организации", да еще с привкусом воскресно-церковной школы: в так называемом "Христианском Союзе молодых людей" (YMCA). Это было единственное место, которое в те годы могло издать русскую книгу: у них были средства и была типография. Необходима была поддержка двух членов Совета. Н.А.Бердяев немедленно помог мне, как и Б.К.Зайцев, и книгу взяли, не читая. Когда она вышла, другие члены Совета (те, которые держались вкусов воскресно-церковной школы) прочитали ее и с ужасом увидели, что там есть "любрические сцены" (как это называлось сто лет тому назад), которые совершенно не вяжутся с духом "организации". И действительно, такой мой рассказ, как "Лакей и девка", YMCA, да еще его русский отдел, переварить не могли. Они приостановили продажу книги, и она до сих пор лежит в подвале "Христианского Союза".
А в книге было шесть повестей, и очень даже недурных. А "Воскрешение Моцарта" и "Плач", и само "Облегчение участи", по которому названа книга, я и сейчас считаю превосход-ными рассказами. Они ненамного хуже (а может быть, и лучше) "Мыслящего тростника" и "Черной болезни", которые были мною написаны последними - в 1958 и 1959 годах. Сама я имею слабость к "Памяти Шлимана", может быть, потому, что, когда я его писала, я все время чувствовала, что я - птица и кладу яйцо в гнездо, а гнездо - мой век.
Стравинский говорит в одном из своих интервью о творчестве как о физиологическом процессе: он чувствует себя, когда пишет, то свиньей, ищущей трюфелей, то устрицей, делающей жемчуг. Он признается, что у него иногда слюна течет - от звуков и гармоний, которые он кладет на бумагу, и что всякое творчество для него есть работа органов внутренней секреции с ее результатом - выделением. Все, что глотается нами, переваривается, усваивается и выделяется, и творчество есть несомненный физиологический акт. Ничего вернее этого не было сказано! Творчество, таким образом, есть функция организма в данной биологической и социальной ситуации, которую мы можем посредством этой функции принять, изменить или трансцендировать.