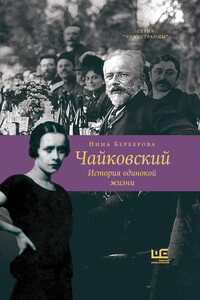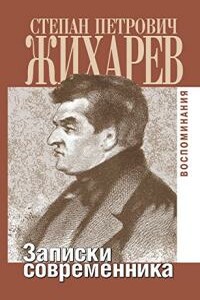Однажды утром Ходасевич постучал ко мне. Он пришел спросить меня в последний раз, не вернусь ли я. Если не вернусь, он решил жениться, он больше не в силах быть один.
Я бегаю по комнате, пряча от него свое счастливое лицо: он не будет больше один, он спасен! И я спасена тоже.
Я тормошу его, и шучу, и играю с ним, называю его "женихом", но он серьезен: это - важная минута в его жизни (и в моей!). Теперь и я могу подумать о своем будущем, он примет это спокойно.
Я целую его милое, худенькое лицо, его руки. Он целует меня и от волнения не может сказать ни одного слова. "Вот подожди, - говорю я ему, я тоже выйду замуж, и мы заживем... Ты и не представляешь себе, как мы заживем все четверо!"
Он наконец смеется сквозь слезы, он догадывается, за кого я собираюсь замуж, а я, и не спрашивая, прекрасно знаю, на ком он женится.
- Когда?
- Сегодня днем.
Я гоню его, говоря ему, что "она убежит". Он уходит.
Оля Марголина появилась в нашей жизни еще зимой 1931-1932 года. Она жила с сестрой. Ей было тогда около сорока лет, но она выглядела гораздо моложе. У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлека-тельной. Позже, когда она жила у нас в Лонгшене во время войны, я дразнила ее:
- Что-то у нашей Оленьки какой дантист нехороший! Вставляет ей зубы, сразу видно, что фарфоровые. Сказать бы ему...
Оля была небольшого роста, ходила тихо и говорила тихо. Она однажды рассказала мне, как, будучи девочкой лет четырнадцати, как-то вечером зашла случайно в какую-то церковь. Это было между Мойкой и Екатерининским каналом, она жила и училась в Петербурге. В церкви жарко горели свечи, шла какая-то служба и люди молились. Она в этой церкви пережила какое-то особенное чувство смирения и подъема и несколько незабвенных минут, которые навсегда изменили ее: она стала совсем другой, не похожей на двух старших сестер, не похожей на братьев, не похожей ни на кого кругом. Она затихла.
- И вот видишь: в свое время замуж не вышла, и вообще, все не как у всех.
"У всех" - это значило у людей ее круга: одинаковых, буржуазных, семейных.
Семья была богатая, отец был ювелиром. Жили в собственном доме, и что меня всегда поражало: у них была в Петербурге своя корова. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в Петербурге имел собственную корову. Олю отвозили в гимназию на собственных лошадях, запряженных парой под сеткой. Потом они жили в Швейцарии, так просто, - жили и ничего не делали. Играли в теннис и танцевали. Но она в теннис играла плохо и танцевать не любила.
Теперь она вязала шапочки и этим зарабатывала на жизнь. Когда я ушла от Ходасевича, она стала иногда заходить к нему и помогать ему.
Я вспоминаю, что когда я бывала с ней, у меня было такое чувство, будто я слон, который вдвинулся в посудную лавку и сейчас все раздавит кругом, а заодно и самое хозяйку лавки. Надо было быть осторожной, потому что она была не совсем такой, каким было большинство людей вокруг. Она верила в Бога. Она постепенно пришла к убеждению, что ей надо креститься. Она говорила, что в еврейской религии женщине как-то нечего делать, ей нет там места. Еврейская вера - мужская вера. Впрочем - Бог, конечно, один, не может же быть двух богов, или пяти, или десяти? Я помнила про слона и молчала: неосторожным движением я могла что-то помять тут, испортить, нарушить.
Ходасевич и Оля прожили шесть лет вместе, и в последний год, когда он тяжело болел, в год "Мюнхена" и аннексии Чехословакии, они оба подолгу гостили в Лонгшене. В последний раз он уже почти не выходил в сад, оставался весь день в кресле на площадке. Н.В.М. делал все, чтобы им было хорошо у нас. Он очень любил Олю.
Последние письма Ходасевича показывают его душевное настроение в конце жизни. Вот два из них:
"21 июня 937.
...Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее "духовных вождях", за ничтожными исключениями) я уже не скрываю, действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал приблизительно недели за три. Из этого "представители элиты" сделали мой скорый отъезд(был слух, что Ходасевич собирается в Советский Союз).Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется Никаких решительных шагов я не делал - не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же - не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен "в душе", что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно). Впрочем, тихонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, я непременно и крепко, и много нахлопал бы дверями, так что ты бы услышала.