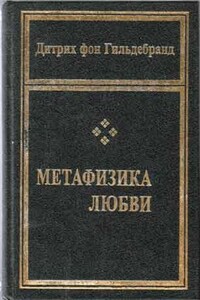Совершенно по-элейски они отрицали всякий генезис, уничтожение, изменение, всякое движение. Аристотель утверждает, что они отрицали понятие возможности, признавая возможным только действительное. Что возможно, но не действительно, то в одно и то же время есть и не есть. В этом заключается противоречие, открытое еще Парменидом: поскольку изменение есть переход бытия к небытию или небытия к бытию, оно представляется совершенно немыслимым (нечто=ничто, или ничто =нечто). Существует лишь абсолютно неизменное, бесплотное и нечувственное бытие, – в этом основное положение мегарской школы: истина принадлежит тому, что понимается, не тому, что ощущается или воспринимается нами.
По Сократу, верховный предмет знания есть благо, и так как лишь познание блага вмещает в себе истину, то только верховное единое благо обладает действительною реальностью. Евклид отожествил благо Сократа с единым сущим Парменида. Благо – едино, единое же есть истинно-сущее. По свидетельству Цицерона, мегарцы считали благом лишь единое, вечное, неизменное бытие. Это благо они называют также и добродетелью, и знанием. Все, что не обладает вышеуказанными признаками единства, неподвижности и неизменности – того нет, то кажется только.
К чему же сводится философия при таких положениях? Каково будет дальнейшее ее развитие? Дальнейшая деятельность школы естественно должна ограничиться диалектикой: подобно тому как после Парменида элеаты лишь опровергали своих противников, доказывая ложь ходячих мнений, так и школа Евклида, исхода из его учения о единстве бытия или блага, сосредоточила всю свою деятельность на эвристике и полемике с остальными учениями. Раскрывая их противоречия, они думали доказать свое учение. Мы действительно видим, что уже сам Евклид был преимущественно диалектиком. По свидетельству Диогена Лаэртского, уже Сократ говорил, что Евклид может вращаться лишь в обществе софистов, а не людей. Любимыми аргументами мегарцев были аргументы Зенона о бесконечной делимости, посредством которых, как выражается Платон, они «растирали вещи в порошок». Раз вещи делимы, они состоят из бесконечно-малых частей, из которых каждая равна нулю. И так как сумма этих нулей равна нулю же, то вещество в действительности не существует.
О том же эвристическом характере школы свидетельствует и страсть к софизмам – знаменитые в древности μεγαριχα ερωτηματα Εвбулида, о которых мы уже упоминали: «Электра», как доказательство ничтожества чувственного знания, «плешивый» – ничтожества количественных различий и т. д. Аргументы другого известного эвристика, Диодора Крона, направлены против движения и представляют собою заимствования из Зенона. Движущееся тело движется либо в том пространстве, которое оно занимает, т. е. в определенном пространстве, либо в том, которого оно не занимает: в обоих случаях движение невозможно, ибо тело не может двигаться там, где его нет, ни в том определенном пространстве, которое оно занимает. Далее Диодор доказывал, что ничто не может двигаться в настоящем, что все движущееся движется лишь в прошедшем, и т. д.
Те же аргументы, лишь с некоторыми изменениями, приводил он против генезиса и уничтожения, особенно против понятия о возможном, так как это понятие непременно предполагает переход от того, чего нет, от небытия, – к бытию. Для доказательства немыслимости «возможного» Диодором был изобретен софизм χυριευων, κоторый составлял предмет удивления в течение многих столетий.[64] Отсюда же Диодор выводит, что нет двусмысленных слов и выражений, ибо возможен лишь один смысл – тот, который имеется в виду. Удобное правило для софистики.
Стильпон, у которого, кроме мегарца Фрасимаха, учителем был также киник Диоген, сочетал диалектику с кинизмом. Он диалектически раскрывал противоречия между общим и частным в наших познаниях и суждениях, доказывая, что нельзя соединять общий предикат с единичным частным субъектом (напр., понятие человека с отдельным лицом); ему также принадлежит конечное развитие учения Евклида о единстве бытия. В этических воззрениях Стильпон заявил себя учеником киников, проповедуя «апатию» (бесстрастие) и самообладание мудреца. Подобно киникам он также позволял себе выходки против национальной религии, за что и был изгнан из Афин.