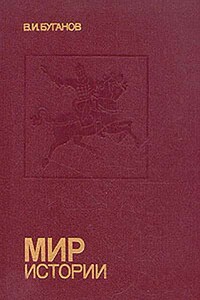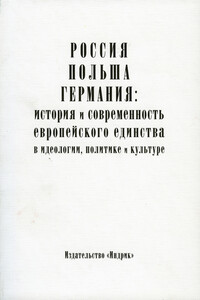Куликовская битва. Сборник статей - страница 30
Из документов и летописных свидетельств несколько более позднего времени выясняется, что в начале 1368 г. московское правительство сумело обрести важных союзников в предстоявшем противоборстве с великим княжеством Литовским и великим княжеством Тверским.
В результате обращения митрополита «Киевского и всея Руси» Алексея константинопольский патриарх Филофей в июне 1370 г. издал два интердикта: одна отлучительная грамота была адресована смоленскому великому князю Святославу, другая — не названным поименно «благороднейшим князьям русским»[283]. Причина отлучения Святослава Смоленского от церкви излагалась в патриаршем послании следующим образом: «Мерность наша узнала, что ты согласился и заключил договор с великим князем всея Руси кир Дмитрием, обязавшись страшными клятвами и целованием честного и животворящего креста в том, чтобы тебе ополчиться на врагов нашей веры и креста, поклоняющихся огню и верующих в него. И великий князь, как условился и договорился с тобою, был готов и ожидал тебя; но ты не только не сделал, как обещался и клялся, но, преступив клятвы, договор, обещание и крестное целование, ополчился вместе с Ольгердом против христиан, и многие из них были убиты и разорены…»[284]. Те же обоснования церковной карательной меры были приведены и в отлучительной грамоте русским князьям[285]. Таким образом, выясняется, что до июня 1370 г. Святослав Смоленский и некоторые другие князья заключили с великим князем Дмитрием Ивановичем договоры против Литвы (врагом, «поклоняющимся огню и верующим в него», был Ольгерд), а затем не только не поддержали Дмитрия, уже собравшего полки, но и выступили против него вместе с Ольгердом. До июня 1370 г. имело место лишь одно столкновение литовского великого князя с владимирским: так называемая «первая литовщина» — поход Ольгерда на Москву в конце 1368 г., в котором приняла участие, как об этом прямо пишет летопись, «смоленьскаа сила»[286]. Следовательно, соглашения Дмитрия Ивановича со смоленским и другими русскими князьями, упоминаемые в интердиктах Филофея, состоялись до конца 1368 г., скорее всего в его начале после замирения Дмитрия с Михаилом Тверским. Какие же русские князья выступали тогда в союзе с Москвой?
Колебания этих союзников Москвы, переход их на сторону то Дмитрия, то Ольгерда подсказывают, что речь должна идти о тех князьях, чьи княжества лежали между Литовским государством и Северо-Восточной Русью. Одним из таких княжеств было Смоленское, князь которого прямо назван в процитированном послании константинопольского патриарха. В 50–60-х годах XIV в. Ольгерд, как уже отмечалось, сумел оттторгнуть от Смоленска ряд городов и волостей. «Все теснее надвигалась на Смоленское княжество, охватывая его крепким кольцом, литовская сила»[287], — резюмировал А. Е. Пресняков. И в этих обстоятельствах смоленский князь становился естественным союзником русской великокняжеской власти. Положение усугублялось еще и тем, что Смоленск, Брянск, приокские княжества в церковном отношении были подвластны митрополиту Алексею, плохо контактировавшему с язычником Ольгердом. К военному и дипломатическому противодействиям нажиму Литовского государства примешивалась и религиозная неприязнь, и все это взаимно питало друг друга.
Очевидно, что в такой же ситуации, в какой оказался смоленский князь, были и другие «благороднейшие князья русские», которых в 1370 г. осудил Константинополь. Речь, очевидно, должна идти об удельных смоленских князьях и князьях восточной Черниговщины, чьи владения лежали в бассейне верхней Оки. Такое предположение подтверждается указанием летописи на союзника великого князя Дмитрия Оболенского князя Константина Юрьевича, убитого в 1368 г.