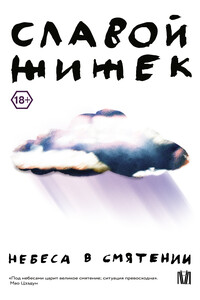Кукла и карлик. Христианство между ересью и бунтом - страница 23
Таким образом, цель Честертона — спасти разум, сохраняя заложенное в его основе исключение, лишившись его, разум деградирует до слепого саморазрушающего скептицизма, одним словом — до полного иррационализма. Таким было основное понимание и убеждение Честертона: иррационализм конца XIX века был необходимым следствием рационалистической атаки Просвещения на религию:
«все исповедания и церкви, крестовые походы и ужасы инквизиции были призваны не подавить разум, но отстоять его. Люди чувствовали, что если когда-нибудь усомнятся во всем, в первую очередь усомнятся в разуме. Власть священников отпускать грехи, власть папы наделять властью, и даже ужасы инквизиции — все это только защита одного, главного, таинственного права — права человека думать. […] Когда уходит религия, уходит и логика…»>16
Проблема здесь такова: является ли эта «доктрина Радости-под-Условием» (или, по-лакановски, логика символической кастрации) в действительности конечным горизонтом нашего опыта? И нужно ли, ради наслаждения ограниченным масштабом действительной свободы, одобрять трансцендентальное ограничение нашей свободы? Является ли единственным способом защитить разум — допустить существование островка неразумия в самой его сердцевине? Можем ли мы любить другого, если знаем, что Бога мы любим больше? К чести Честертона следует отметить, что он выразил собственно перверсивную природу этого решения в отношении язычества; он рассуждает о стандартном (ложном) понимании, согласно которому древний языческий подход — это радостное утверждение жизни, в то время как христианство навязывает унылый порядок вины и самоотречения. Напротив, языческая позиция глубоко меланхолична: даже если проповедуется жизнь, полная удовольствий, то только в форме «наслаждайся, пока живешь, потому что в конце всегда будут смерть и тлен». Послание же христианства — это, напротив, послание вечной радости, скрытой под обманчивой поверхностью вины и самоотречения:
«Внешняя его сторона — строгая стража этических ограничений и профессиональных священников: но внутри жизнь человеческая пляшет, как дитя, и пьет вино, как мужчина, ибо лишь ограда христианства сберегает языческую свободу»>17.
Разве «Властелин колец» Толкиена не является конечным доказательством этого парадокса? Только истинный христианин мог вообразить такую чудесную языческую вселенную, тем самым подтверждая, что язычество есть исходная христианская мечта. Вот почему консервативные христианские критики, выражавшие озабоченность тем, что книги и фильмы типа «Властелина колец» и «Гарри Поттера» подрывают христианство, популяризируя языческую магию, упустили главное, а именно перверсивное заключение, необходимо здесь присутствующее: вы жаждете наслаждаться языческой мечтой о радостной жизни, не платя за это меланхолической печалью? Тогда выбирайте христианство! Мы можем разглядеть следы этого парадокса вплоть до широко известной католической фигуры священника (или монахини) как изначальных носителей сексуального знания. Вспомните, наверное, самую сильную сцену из «Звуков музыки»[16]: Мария сбегает от семейства фон Траппов назад в монастырь, поскольку она не в силах справиться со своими чувствами к барону фон Траппу, однако и здесь она не может обрести покой; в той памятной сцене мать-настоятельница призывает ее к себе, советуя вернуться к фон Траппам и попытаться уладить отношения с бароном. Она сообщает об этом в чудной песенке «Взберись на все вершины!», удивляющей своим призывом: «Сделай это! Рискни и испробуй все, что твоя душа захочет! Не позволяй мелочным соображениям встать на твоем пути!» Коварная (uncanny) сила этой сцены — в неожиданной демонстрации желания, буквально приводящей в смущение, женщина, от которой ожидаешь проповеди воздержания и самоотречения, выступает за преданность собственному желанию>18. Примечательно, что, когда в конце 1960-х «Звуки музыки» демонстрировались в (тогда еще социалистической) Югославии, ЭТА сцена — три минуты, пока звучит песня, — была подвергнута цензуре (вырезана). Это единственная сцена из фильма. которая была вырезана. Безвестный социалистический цензор обнаружил тем самым свое глубокое понимание поистине опасной силы католической идеологии: она отнюдь не является религией жертвенности, отречения от земных радостей (в противоположность языческому потаканию страстям), христианство предлагает окольную стратагему потакания нашим желаниям БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАТИТЬ ЗА НИХ, чтобы радоваться жизни, не боясь тлена и изнуряющей боли, ожидающих нас в конце. Если мы пойдем до конца в этом направлении, можно будет даже утверждать, что здесь находится решающий смысл жертвы Христа: