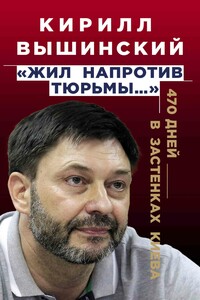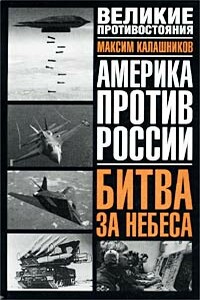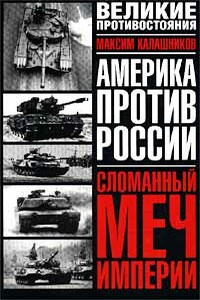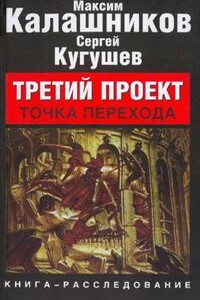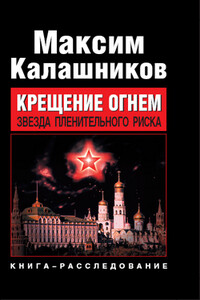«…Солнце продолжало раскалять песок, доставалось и нам. Температура воздуха в тени достигала уже 37°. Целый день, сидя в седле, мы находились под горячим солнцем, и от него некуда было деться. В седельной сумке — куржуме всегда была фляжка с водой, но она предназначалась только на вечер. В начале нашего путешествия мы после долгого перехода по неопытности садились отдыхать прямо на песок, но тут же вскакивали: он был раскален. Скоро мы догадались снимать верхний слой сантиметров на 15–20, под ним оказывался прохладный и даже сырой песок.
Наше монотонное движение с «верблюжьей скоростью» по барханам, такырам и бугристым пескам иногда прерывалось сильным и внезапным ветром, поднимавшим тучи песка. Сразу темнело, и трудно было сказать: что было хуже: жгучее солнце или ветер с песком вперемежку. Кроме того, наше оружие приходило в негодность и его надо было каждый раз тщательно чистить…
Девятый день в песках. Запасы воды в бочонках почти кончились, а остатки испортились, и в ней развилась всякая живность. Хуже всего было с лошадьми, без воды они могли погибнуть, в то время как верблюды могли еще терпеть. Но шли верблюды все тяжелее. Уже не раз некоторые ложились в пути, а поднимать их стоило больших трудов. Решили, так и не дойдя до колодцев, сделать остановку. После короткого отдыха, дав не более четверти ведра воды лошадям, мы снова пустились в путь, пытаясь скорее дойти до колодцев Мамет-Яр…
…На пути к колодцам Мамет-Яр встретили дождевую яму, где сохранилось немного воды, но она была буро-желтого цвета, непрозрачная и с сильным аммиачным запахом. Пить ее нельзя было, нельзя было и поить лошадей. Так ни с чем мы двинулись дальше. Постепенно такыры стали встречаться реже, а пески стали менее закрепленными. Непрерывно дул сильный ветер, хотя даже слабому достаточно пяти минут, чтобы совершенно сгладить следы каравана на поверхности барханов. Очевидно, опытный караван-баши ориентировался в пути не столько по местным знакам или следам, сколько по положению солнца, а ночью — звезд.
С трудом, но мы все же дошли до колодцев Мамет-Яр. Напоили животных и наполнили свои бочонки.
Всего мы насчитали в Мамет-Яре 19 колодцев, но только в восьми из них вода была пригодна для питья. Она стояла на большой глубине — не менее 20–25 м ничтожным слоем в 10–15 см и имела резкий запах сероводорода. По словам местных жителей, запаса воды было достаточно только для того, чтобы напоить один раз 100 верблюдов и 1 200 овец. Остальные колодцы были либо без воды, либо прикрыты колючей травой — знак того, что колодец не действует.
Мы оказались свидетелями того, как местные жители достают здесь воду из колодцев. Туркмен на длинном аркане опускал в колодец мешок из шкуры барана емкостью 3–4 ведра, растянутый на крестовине, а назад его вытаскивал верблюд, которого мальчик вел прочь от колодца; в другой раз мы видели, как ту же операцию проделывали четыре туркмена. Вокруг колодца толпились верблюды, их поили из небольших деревянных колод. Как нам сказали, верблюдов и овец поят не чаще чем один раз в 2–3 дня….»
Как представить себе движение масс переселенцев из Ирана, Индии, Пакистана, Бангладеш, Афганистана, Средней Азии сквозь пояс пустынь Средней Азии и Казахстана? В виде живых «змей». В головах колонн должны идти боевики, дальше — кибитки с женщинами, детьми и стариками. Да-да, на автомобилях двигаться не получится — топлива взять неоткуда. И тут же — первая трудность: где взять столько лошадей и верблюдов. Просто негде.
Вторая трудность — переселенцы, принадлежа к разным верам и языкам, просто примутся нападать друг на друга. Ведь надо бороться за источники воды, еды и горючего. Да и идти сквозь те районы, где есть местные жители, не очень гостеприимно настроенные к пришельцам-переселенцам.
Третья трудность: по пустыне теоретически можно двигаться по линии автотрасс и железных дорог, построенных в основном русскими (и отчасти — уже после 1991 года). Но воды-то там мало! На движение многотысячных масс местные артезианские скважины не рассчитаны. Придется вступать в бои с местным населением, защищающим живоносные скважины и колодцы. При этом при переходе через пустыни большинство таких «людских змей» попросту погибнет.