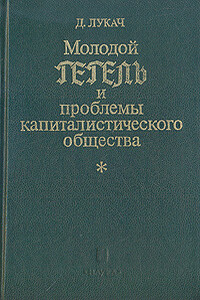Но даже если мы и утверждаем, что эта теоретико-познавательная основа осталась нетронутой, мы в то же время все же должны учесть, что — по сравнению с предшествующей эпохой — в философии эпохи империализма произошло существенное изменение. Важнейшие моменты этого изменения Каковы: наигранное стремление к объективности, далее, борьба против формализма теории познания, его кажущееся преодоление и связанный с этим триумф мистической интуиции, которая выдвигается в центр внимания как новый инструмент философского знания, и, наконец, новая постановка мировоззренческого вопроса вместо последовательного агностицизма предшествующей эпохи.
Все эти моменты возникают из потребностей эпохи империализма. Все они являются симптомами кризиса философии. Удовлетворенность, вечная, кажущаяся неколебимой общественная обстановка, видимость спокойного общественного и политического подъема (так называемая Sekuritat, то есть безопасность) формировали такой духовный настрой и такой образ действий в философии, которые позволяли передать все содержательные проблемы (всю действительность) специальным наукам, промышленному развитию и, не в последнюю очередь, "мудрым управленцам" государственного аппарата, разумеется, с точным соблюдением теоретико-познавательных границ.
То, что потребность в мировоззрении выходит на первый план, уже является признаком кризиса или, по меньшей мере, его предвестником. Чувствуется, что, несмотря на кажущуюся стабилизацию, даже укрепление поверхности, устои пошатнулись. Самое главное, склонное к философским обобщениям интеллигентское сословие чувствительно реагирует на назревающий кризис; еще задолго до 1914 года эта проблематика становится ощутимой в значительной части империалистической философии. Так или иначе, к этому времени признаки кризиса окончательно становятся всеобщими; они воплощаются главным образом в беспокойстве о сохранении целостности отдельных индивидов перед лицом разобщения вследствие капиталистического разделения труда, в обнаружении неразрешимых противоречий, зарождающихся внутри капиталистической и империалистической культуры (однако здесь будут обсуждаться противоречия не капиталистической культуры, как всюду, а противоречия культуры в целом). Наиболее выдающимся представителем философии этого скрытого кризиса является Зиммель.
Возможно, это прозвучит парадоксально, если мы скажем, что потребность в мировоззрении есть признак кризиса. Но истина, как всегда, конкретна. Поэтому посмотрим на общественную функцию вопроса о мировоззрении в трех описанных выше эпохах буржуазного мышления. В классической буржуазной философии развивалось могучее, всеобъемлющее мировоззрение; философия в то время была самой влиятельной, основной и обобщающей наукой, и в соответствии с этим мировоззрение было последним содержанием научной философии, которое органически взошло на взлете буржуазного общества и которое привело научную деятельность на отдельных этапах развития к высшей точке и завершило ее. Экономически благоприятная эпоха классовых компромиссов трусливо и вяло отворачивалась от любого мировоззренческого вопроса, считала занятие этими вопросами избыточным, характеризовала, пожимая плечами, стремление к мировоззрению предшествующей великой эпохи как ненаучное. В противоположность этому интеллигенция, неудержимо приближающаяся к кризису и в конце концов затянутая в водоворот кризисов, быстро сменяющих друг друга, надеялась найти в идеологии, которую она раздула до мировоззрения, утешение, успокоение и примирение с судьбой.
Но, тем самым, мы опять-таки приходим к парадоксу: как может мрачный пессимизм Ницше или Шпенглера, Клагеса или Хайдеггера давать утешение? Этот парадокс изначально присущ воздействию философского идеализма из-за того, что идеализм — в антиисторическом, абстрактном духе — изображает особую судьбу человека эпохи империализма как вечный фатум и создает воздействующий подобным образом философский метод. Ведь — как бы парадоксально это, быть может, и ни звучало — именно в такой покорности судьбе лежит утешение; подумаем об amor fati (любви к судьбе) у Ницше, о жизни, направленной к смерти, у Хайдеггера, о "героически" приукрашенном пессимизме и фатализме в протофашизме (Шпенглер) и у фашистов и т. д. (Шопенгауэр и Кьеркегор — предвестники этого направления). Не ожидается, что люди будут удовлетворены, когда для этого нет никаких причин, когда для мыслящих людей чувство удовлетворения совершенно невозможно. Хотя не следует забывать, что современные мыслители, такие, как Кайзерлинг или Ясперс, указали на подобную замкнутую, исключающую всякую социальность частную жизнь, которая удовлетворена самой собой, мировоззренческая основа которой построена именно на глубоком пессимизме в отношении всеобщего мирового процесса.