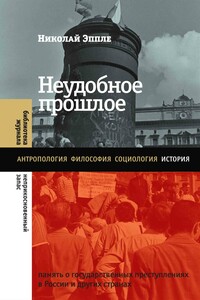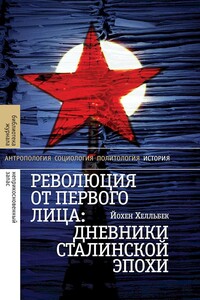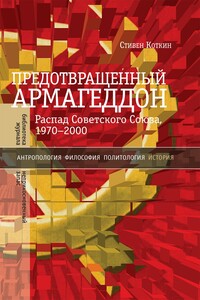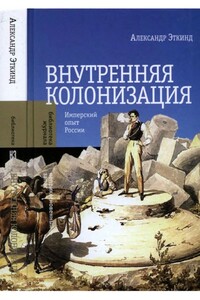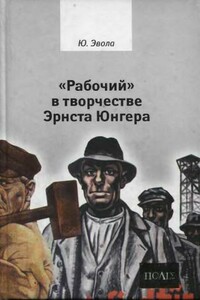Кривое горе (память о непогребенных) - страница 17
Советские лагеря не были лагерями смерти; они были лагерями пыток. В них умерли миллионы, но происходило это в результате естественной убыли, умноженной пренебрежением. Говоря терминами Арендт и Скэрри, ГУЛАГ работал не для того, чтобы уничтожать заключенных, а для того, чтобы разрушать их язык и их мир. Скэрри показывает, что потребность в информации часто являлась ложным мотивом следственных пыток, у которых на самом деле были другие цели. Схожим образом, экономические нужды Советского государства были ложным оправданием для лагерных пыток, у которых тоже были иные цели. Производительность лагерного труда составляла около 50% от среднего уровня в тех же отраслях промышленности; хуже того, эта цифра не учитывает те лагеря и тюрьмы, где тысячи заключенных вообще не работали. Многие проекты ГУЛАГа невозможно обосновать экономической рациональностью. Некоторые из них так и не были закончены, а если и были (как, например, Беломорканал), оказались бесполезны. Постоянной проблемой администрации ГУЛАГа была не нехватка, а избыток рабочей силы. Аресты шли не для того, чтобы набрать рабочих для гулаговских проектов; наоборот, проекты придумывали, чтобы чем-то занять заключенных{61}. Режим отчасти признавал неутилитарную природу лагерей, говоря об их идеологической, образовательной и психологической функциях — одним словом, об их центральной роли в переделке советского человека{62}. Быстрая деградация Мандельштама в пересыльном лагере демонстрирует особую эффективность этого низкотехнологичного метода. Лагеря пыток переделывали природу человека в масштабах всей страны. Повсеместное применение пытки в советских тюрьмах и лагерях превращало тех, кто был щедро наделен языком, творческой способностью и тем, что Арендт называла «миром», в доходяг, безразличных ко всему, кроме пайки хлеба и иерархии в лагерном бараке.
Пытаясь найти способ передать ужас нацистских концлагерей, итальянский философ Джорджо Агамбен разработал понятие homo sacer, которое обозначает человека оказавшегося за гранью «голой жизни» — «жизни, подлежащей убийству, но не подлежащей жертвоприношению»{63}. Действительно, в жертву можно принести только ту жизнь, которая имеет ценность. Напротив, голая жизнь доходяги заполняет ничейное пространство и время между социальной и биологической смертью. Не определяемая законом, обычаем или верой, голая жизнь входит в прямое отношение к суверену: тот, кто может объявлять чрезвычайное положение, может также определять, кого из подданных можно произвольно уничтожить. Агамбен доказывает, что концлагеря были постоянными зонами исключения из области права и потому лагерную жизнь нельзя описать в терминах, которые имели бы смысл вне таких зон. Архивы могут сохранить следы любой жизни, кроме голой жизни. Такая жизнь, в которой едва теплилось сознание из-за унижения, голода и болезней, оказывается забыта.
Однако в контексте сталинского режима анализ, данный Агамбеном, выглядит неполным. Идея жертвоприношения покоится на религиозных представлениях древних греков и римлян. Для современного человека это очень двусмысленная идея{64}. На светском языке «жертвоприношение» — например, гибель солдат на войне или пожарных при исполнении долга — можно определить как соединение добровольного участия с признанием в публичной сфере. Другими словами, жертвоприношение добровольно, публично и наделено смыслом. Напротив, массовое убийство в газовой камере, смерть от организованного государством голода или гибель в советском лагере не подходят под это определение, так как не являются ни добровольными, ни публичными.
Основанные на понятии жертвоприношения, агамбеновское определение «голой жизни» и его архаическое понятие homo sacer нужно серьезно скорректировать, прежде чем применять к ГУЛАГу. Переосмысляя теорию Агамбена, Эрик Сантнер предлагает концепцию «тварной жизни» {maturely life}, которая отражает «онтологическую уязвимость» человека. Согласно Сантнеру, защищая своих членов от угроз, социальные институты часто делают их еще более уязвимыми и рассматривают вверенную им в защиту «тварную жизнь» как не вполне «голую», но и не вполне суверенную