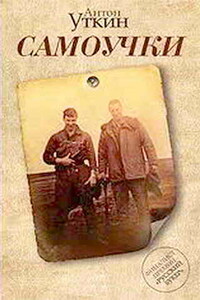Какое-то особое, чуть старомодное достоинство, присущее ему, убеждало, что при его посредничестве и под его присмотром ничего дурного произойти не может, и ничего дурного не происходило. В его присутствии незнакомые люди внезапно проникались друг к другу симпатией и понимали каждый другого с полуслова. Однако кто был, собственно, этот человек, род его занятий никому известен не был, и вопрос об этом многих бы поставил в тупик. Довольно с них было и того, что сегодня он обедал с депутатом таким-то, позавчера его видели с певицей такой-то, а чуть позже в компании известнейшего театрального критика. Никто не удивлялся, встретив его в приемной министра, в редакции ведущей газеты или модного журнала, или в закрытом клубе в обществе известного хоккеиста, прилетевшего на родину всего на три дня.
Казалось, что вся его жизнь и заключается в этих бесконечных встречах и малозначительных разговорах, и похожа она была на работу хорошо отлаженного и смазанного механизма. Никто не знал, где и чем он добывает средства для такой жизни, но об их наличии свидетельствовал автомобиль, пусть не самый удивительный, но всегда той самой последней модели, которая как бы пролагает границу между обеспеченной жизнью вообще и жизнью избранного круга, а иными словами, служит пропуском в определенное общество, намекая скорее на скромность, чем на стремление выделиться и поразить. И еще казалось, что он никогда не покидает Москвы: в этом городе, в котором он родился, он чувствовал себя как в благоустроенной квартире, и в любое время дня и ночи, в любой сезон, стоило только хорошенько поискать, он находился весьма кстати для очень многих. И на вопрос, кто же все-таки этот человек, некоторые отвечали, что он близкий друг такого-то, и искренне полагали, что этим все сказано, что ответ исчерпывающий, но что на самом деле не являлось правдой. Друзей в привычном понимании у Вадима не было. Единственным, кто действительно считался ему если не другом, то близким приятелем, был Тимофей. Никто не смог бы сказать, доволен ли Вадим той жизнью, которую ведет, нет ли, есть ли у него какая-нибудь безумная с точки зрения здравомыслящих членов общества мечта, доступен ли он страстям или переживаниям, но Тимофей знал, что мечта есть, и даже догадывался, в чем она заключается.
Между ними сложились такого рода отношения, которые не слишком оскорбляются неразделяемыми убеждениями, снисходительны к преступлениям средней тяжести и скреплены парой-тройкой нелицеприятных секретов. Они считались друзьями и были ими без сомнения, не задумываясь лишними уточнениями, ибо это была не та дружба, которую выбирают, но та, которая выбирает сама общностью судьбы и стечением обстоятельств.
Кроме того, они смутно чувствовали между собой глубинное коренное родство, но сами бы смогли определить его в самых приблизительных выражениях. Можно было сказать лишь то, что оба они признавали жизнь, умели жить в предлагаемых обстоятельствах и не находили нужным что-либо менять в ней. Но это только так казалось на первый взгляд. Оба они как люди, страдающие одним и тем же недугом, к примеру, как вшитые алкоголики, угадывали без труда, что еще лежит под этим внешним сходством, и то, что там лежало, роднило их еще больше, заставляло их испытывать друг к другу не то чтобы уважение, а как бы усматривать один в другом самого себя. Оба они знали, что срок выйдет, и они выпьют, иначе что-нибудь отчебучат такое, что разом отменит их нынешнее состояние, – не знали только, когда у кого выходит срок, и настороженно поглядывали друг на друга, словно пытаясь определить, как близок этот момент. Отношения между ними сложились по умолчанию. Обычно довольно распущенный, в обществе Вадима Тимофей превращался в такого же приятного, остроумного и спокойного человека, каким был сам Вадим, и Тимофею нравилось это состояние игры. Иногда ему даже приходила мысль, что, собственно, нет тут никакой игры, а просто он на некотрое время становился самим собой – таким, каким видел себя, быть может, не отдавая себе отчета, таким, каким становился, напяливая на себя старый дырявый противогаз. Виделись они не часто, но и не редко, встречи эти были ни долги и ни коротки. Времени, проведенного вместе, хватало на то, чтобы уловить друг в друге это трудноопределимое выражение и понять, что клад все еще лежит там, где его положили.