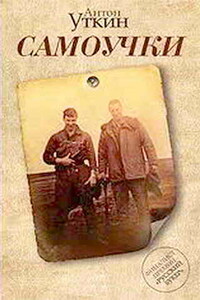* * *
– Нельзя так дальше было жить, – говорил Ивантеев, – нельзя, – то и дело норовя взять Цимлянского под руку. – Большевики не удержатся, даю им самое большее два месяца, а потом... – Он мечтательно улыбнулся. – Потом выйдем мы и скажем...
– Кому? Коровам? – мрачно перебил его Цимлянский.
В это время они уже переходили Самотечную. Едва Цимлянский переступил порог прихожей, как им овладело то самое знакомое с детства чувство, которое появилось впервые, когда он мальчиком тихонько сидел подле Васнецова и молча смотрел, как тот работает. Но сейчас это чувство стало ему неприятно, потому что вошло в противоречие с тем, что ему довелось увидеть в Москве. Стараясь ему не поддаваться, Цимлянский прошел в гостиную, обставленную стилизованной мебелью, пробежался глазами по креслам с резными спинками, но ни на одно из них не сел, а устроился на обыкновенном венском стуле, продолжая разглядывать резьбу шкафов, сундуков, ларцов и наивный орнамент подзора, свисавшего с полки. Такой они хотели видеть Россию – сказочным континентом, необъятной сказкой, с хорошим, славным концом, который бы, сам по себе недостижимо далекий, разыгрывался понемногу хотя бы раз в год. Но такой она никогда не была, а какой была, теперь уже никто не знал. Наконец из боковой комнаты вышел хозяин в своей неизменной овчинной безрукавке.
Но и вышитая безрукавка, и его округлое русское «о», которое одно прежде рождало в воображении маленького Цимлянского целый волшебный мир, теперь звучало только как указание, что человек, к которому он пришел, родом из северной губернии. И Васнецов, и его гость, казалось, были недовольны собой за то, что за этим благодушным «о» проглядели нечто столь важное, что вполне низводило их со ступени взрослых и ответственных людей на инфантильную площадку трамвая, который шел без кондуктора в немыслимом направлении.
– Мы же там на чужой территории, поэтому, конечно, порядка больше, все как-то жмутся друг к другу, что ли, да и Щербачев молодец, – рассказывал Цимлянский, – тлен этот в полной мере до нас не дошел, – но глаза его, устремленные на Васнецова, будто спрашивали – как же это, дядя Витя, как все это могло случиться, и видели, что дядя Витя растерян не меньше и не знает, что отвечать.
И только Ивантеев, по-видимости, не испытывал никаких похожих чувств, а вел себя так, как если бы все это происходило месяцев одиннадцать назад. На правах близкого он подошел к мольберту и откинул полотно, прикрывавшее холст. Занимая собою весь небосвод, над степью нависал змей. Далеко внизу, на черной земле маленький витязь, прикрываясь миндалевидным щитом, верхом на буланой лошадке выставлял в сторону змея меч, тоненький, как иголка. Самое страшное в этой сцене было то, что змей даже и не смотрел на витязя, так он казался ему мал и ничтожен, а смотрел прямо на зрителя холодным, равнодушным, безжалостным взглядом. Из-под черного его крыла вытекал кровавый закат, окрашивая светлые доспехи витязя мрачным багрянцем.
– Кто же этот витязь, дядя Витя? – спросил наконец Цимлянский.
Васнецов ничего не ответил, вздохнул и вышел из комнаты.
Пешком Цимлянский с Ивантеевым дошли до Трубной площади, где, сгорбившись на облучке, клевал носом старенький извозчик. Его согбенная спина, обтянутая серым армяком, такая же старая, смиренная лошадка, задумавшаяся посреди пустой площади, подчеркивали запустение и покорность. И даже дома имели вид отслужившей и опустевшей декорации. Кое-где горевшие окна робко и жалобно выглядывали на улицу, словно прося извинить их хозяев в неспособности принять участие в жизни. На вопрос Ивантеева, что он собирается теперь делать, Цимлянский ответил:
– Пока намерен держаться своего полка, а там посмотрим. – «Хотя какой уж там полк», – подумал он.
Ивантеев манерно и сочувственно пожал ему руку и быстро зашагал обратно к себе на Селезневку, зачем-то подняв каракулевый воротник своего пальто. Цимлянский забрался в коляску и назвал адрес.
Некоторое время извозчик ехал молча, но не удержался и разговорился.
– Кровопролитство-то, батюшка, какое, не приведи господи, тут фабричные, там юнкеря, ни пройти ни проехать, пушками шибали, с Кудрина кидали по Кремлю, с Воробьевых кидали. Этих-то на Братское свезли, а этих... – Он переложил вожжи в левую руку, а правой махнул куда-то в сторону.