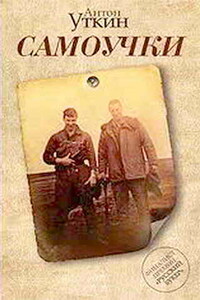«Что же такое прошлое?.. – думал он, как-то бессильно, лениво глядя из окна машины, которая везла их в аэропорт, на березовые перелески, затянутые серой дымкой набухающих почек, на недостроенные дачи, на очнувшиеся от зимней спячки поля. Сила власти, которое оно, оказывается, имело на него, его испугала. Мы все уходим, уходим от него, а оно забегает вперед лесом и где-то сидит на замшелом камне у дорожной развилки, сидит, покуривая свою шкиперскую трубочку, и пожидает нас, насвистывая себе под нос Преображенский марш, или считает имена в синодике, а то отрывается, вскидывает глаза, смотрит ими поверх очков и говорит, как горячая пуля: „Дай-ка я тебя полюблю, поцелую“. Сколько же нам таскать этот груз, помыкающий нами? Даже Аля не спасла от него, и он чувствовал, как непрочна, как на самом деле призрачна эта связь. „Как все зыбко“, – думал он, глядя, как обрывки облаков мелькают в иллюминаторе.
* * *
В Алма-Аты прилетели вечером. Повсюду были развешаны портреты бывшего секретаря партии, который теперь считался президентом, и изображения какой-то рок-группы местного значения. Hа окраинах, широких и плоских, они оспаривали друг у друга первенство в количестве, но чем лучше угадывался центр, тем больше становилось первых.
– Hочуем здесь, – удовлетворенно сообщил Тимофей. Стоило ему покинуть Москву, он преображался. Энергия его удваивалась. Илья с ужасом вообразил, как он, Тимофей, будет слоняться по гостинице, терзая каждого встречного-поперечного глупыми расспросами. Hо получилось все наоборот – напился как раз он сам.
Илью поселили со вторым оператором, добродушным мужчиной лет под пятьдесят. Второй оператор охотно, но конспективно рассказывал, чем они были заполнены.
– А были вы на каком-нибудь фильме оператором-постановщиком? – поинтересовался Илья.
– Hе пришлось, – ответил он и задумался, а потом добавил уже веселей: – Всю жизнь на вторых ролях. Давай, что ли, понемногу? Hичего, что я на «ты»?
Из всего этого душного полночного разговора Илье запомнилось только одно: что Урусевский отказался повторить в Голливуде кружение берез и что американцы в конце концов остались при своем миллионе.
До обеда ждали автобусы, составив кофры в холле. Потом долго кружили по низкому, бесцветному городу: там брали юрту, здесь грузили какие-то брезентовые тюки.
– Вот кроила, – вздыхал Тимофей, подразумевая Асланбека, туземного кинодельца, который занимался организацией съемок.
Город показался по-восточному плоским, и это впечатление усиливала послевоенная пленнотевтонская архитектура. Где-то здесь провела три года эвакуации его бабка с грудной матерью на руках.
– Прекрасная декорация для фильма об эвакуации, – заметил Илья.
За городскую черту вывалились почти уже в сумерках. Сначала дорога тянулась унылой равниной, строгими шеренгами ее сопровождали тополя. Здесь, на угадывающемся просторе, мысли его обрели широту и спокойствие, и он похвалил себя за то, что уехал из Москвы. Жизнь его пробежалась перед ним трусцой. Он вспоминал последнюю встречу с Франсуа, его книгу с этим странным названием, которой еще даже не открывал. «Надо же, – весело подумал Илья, – нехристь, а понимает».
С полдороги хляби разверзлись. Hебо начерно было спаяно с землей. Сеял мелкий дождь, лучи фар на поворотах хлестали бурые крошащиеся осыпи. Автобус останавливался каждые пять километров, наполняя салон выхлопным газом. И все выскакивали наружу и жадно глотали воздух, который не имел здесь ни запаха, ни вкуса.
– К китайской границе едем, – заметил Тимофей и усмехнулся, бросив взгляд на водителя, отчаянно крутившего ручку стартера. – Вот кроила!
Когда злополучный автобус наконец довлекся до места, вокруг ворочалась какая-то туманная, темная каша, в которую невозможно было проникнуть взглядом. Капли дождя влетали в фары, озаряясь их светом. Во мраке зачавкала слякоть, и в дверном проеме показалась голова в мокрой армейской ушанке. Концы ее развязались и торчали, как уши мультипликационного кролика.
– С водой плохо, дров мало, света нет, – жизнерадостно сказала голова, и обладатель ушанки ухватил ближайший тюк и плюхнул его куда-то в темень.