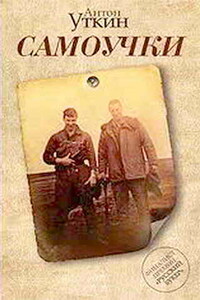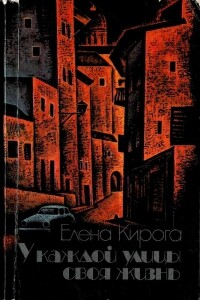И он задавал себе вопрос: а кто, собственно, самозабвенно страдает за идею в наши дни? И что это за идея? И если никто, то что тогда поддерживает мироздание и позволяет времени идти?
Академики в его глазах приобрели значение семи праведников, позволяющих стоять городам; мысли о них стали для него тем, чем для раненого в тылу служит сознание прочности фронта, – чем вообще в сомнительных обстоятельствах для спящих людей является уверенность, что кто-то бодрствует, имея в виду и их безопасность тоже.
Как-то в редакции ему на глаза попался обрывок бумаги с несколькими словами, чудесным образом заключавшими в себе то, о чем и он мог кое-что рассказать. «Некоторые сказки отдаленного времени, – было написано там крупным размашистым почерком, – кажутся нам хрустальными призраками. Их нет, но до них можно дотронуться. Они не существуют, но осколки их жалят сердце. Нам хочется верить их непосредственной робости, чтобы подвергнуть сомнению позор настоящего». Кто это написал и зачем, дознаться было не просто, и Николай и не пытался делать этого, но стал смотреть на своих сослуживцев несколько иначе, чем прежде, стараясь угадать среди них неведомого единомышленника. Сознание того, что есть некто, испытывающий ощущение, выраженное этими словами, рассеивало одиночество Николая и тем самым придавало ему бодрости.
Он думал об академиках и так и эдак, думал с фантазией, виртуозно. «Hет, они знают какую-то тайну», – тоскливо думал он. Эта мысль сосала его мозг. Уже несколько раз он выдумывал себе командировки, но всякий раз они срывались по непредвиденным причинам. И когда все вокруг теряло присущие краски, эта мысль наполняла его: незлобивый приют праведности, пресветлое царство пресвитера Иоанна, вечно блуждающее, вечно ускользающее, чудесная страна грез и затаенных мечтаний.
И тогда его тоже охватывало желание уйти и владело им безраздельно. Он мечтал найти себя прежнего, стать самим собой. И хотя он не сумел бы, наверное, внятно отдать себе отчет, каким же было то, что утеряно, горечь утраты постоянно напоминала о себе. В одно и то же время он и был самим собой, и отчетливо понимал, что где-то и когда-то утрачено нечто такое, без чего жизнь потерялась сама. Где и когда это случилось, было уже не разобрать. Внешне его жизнь была устроена, но полноты ее не хватало, и ощущение дискомфорта, постепенно усиливаясь, обещало окраситься в более трагические тона. Отныне он был уверен, что стоит ему добраться до академиков, как они, эти мудрые люди, так круто повернувшие свои жизни к какой-то одной им ведомой истине, откроют ему свою великую тайну и он, посвященный, заживет, осиянный новым светом и новым смыслом. И он исподволь стал готовиться к этому паломничеству.
Пятого января он ехал в полдень по Рублевскому шоссе на встречу с владельцем газеты. Ему предстоял разговор о ее реконструкции, которой владелец, в немного тревожном ожидании грядущих президентских выборов, загодя намеревался упредить возможные упреки в политической неблагонадежности. Служебный «Ниссан», то и дело тыкаясь своей самодовольной мордой в кокетливо приподнятую задницу миниатюрного «Рено», медленно полз в череде других машин. Впереди была пробка, справа были дома, а слева бесконечно тянулся серый забор Кремлевской больницы, и по неширокой полосе между забором и шоссе, поросшей березами, ехал на лыжах какой-то человек. Уже стали впереди видны среди приземистых сосен, запудренных инеем, зеленые и бордовые крыши поселка. Кто-то ему говорил, что когда-то на этом месте была деревня. Лыжник нырял в лощинки, мелькала среди стволов его красная спортивная шапка с какой-то синей надписью. «Ниссан» толчками то догонял его и равнялся с ним, то вырывался вперед. Невольно глядя на этого беспечного лыжника, Николай испытал сложное чувство зависти и неприязни. Вот едет, думал он, беспечный человек. Интересно, читал он утром мою газету? Нет, наверное не читал. Значит, он не знает о том, что Хлестакович сказал в Думе, не знает о том, что Украина опять подняла транзитные пошлины на газ, ничего не знает. И ему захотелось выйти из машины, броситься к этому человеку, остановить, хорошенько тряхнуть его и сказать: «Нельзя газет не читать. Помните, что говорил Остап Бендер про тех, кто газет не читает? Убивал бы таких Остап».