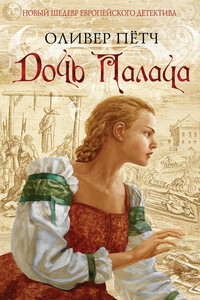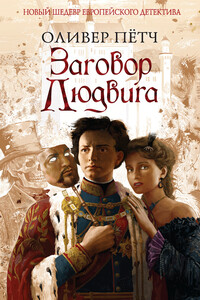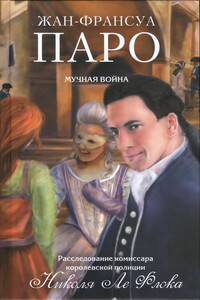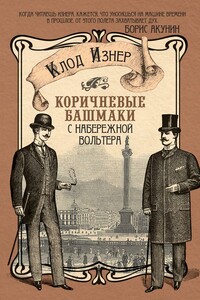Девушка хлопнула себя по лбу. Рассерженная на Матиса, как она могла забыть об отце! Агнес тревожно взглянула на отца Тристана и тихо спросила:
– Ранения? Они… настолько серьезны?
Старый капеллан вздохнул:
– Должен сказать, я в некоторой растерянности. Сегодня утром я лично очистил и перевязал раны. Не очень глубокие, и я думал, они благополучно заживут. Но теперь…
– Так, значит, граф Шарфенек прав? У него горячка? – перебила его Агнес, но монах покачал головой:
– Я только что снял повязки и осмотрел раны. Они чисты. Но должен признать, впечатление такое, будто у него и вправду горячка.
– Впечатление? – Агнес нахмурилась: – Как это понимать?
Отец Тристан осторожно огляделся и понизил голос.
– То, что я сейчас скажу тебе, должно остаться между нами, – прошептал он, – ясно? Это может стоить мне головы.
Агнес кивнула, и монах тихо продолжил:
– У твоего отца лихорадка и озноб, сердце колотится и с правой стороны проявляются признаки паралича. Кроме того, он сам говорит, что у него покалывает губы и язык. Я могу дать лишь одно объяснение этим симптомам.
– И… какое же? – нерешительно спросила Агнес.
– Аконит.
– Аконит?
Агнес закрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Синие цветки аконита были сильнейшим ядом, известным в христианском мире. Пять лепестков или вытяжка из них несли в себе смерть. Он рос и в этих краях. Отец Тристан с детских лет предостерегал Агнес от этого растения.
– Вы… полагаете, моего отца отравили? Но зачем? И кто?
Отец Тристан наклонился к ней почти вплотную. У ног их зияла скалистая пропасть.
– Сегодня утром, перед отъездом, он чувствовал себя прекрасно, – прошептал монах. – Но перед Анвайлером мы устроили привал. Я видел, как твой отец пил вино с графом Шарфенеком. Кажется, они чокались по какому-то поводу…
Он многозначительно замолчал.
– Граф Шарфенек отравил моего отца? – Агнес в ужасе уставилась на капеллана. – Господи! Но… зачем?
Отец Тристан пожал плечами:
– Не могу сказать. Знаю только, что эта странная лихорадка началась после привала. С тех пор час от часу становится только хуже.
Новость была столь ужасна, что Агнес даже плакать оказалась не в силах. Только стояла и смотрела в пустоту. Если отца действительно отравили аконитом, на исцеление нечего было и надеяться. Яд будет медленно сковывать его тело, пока дыхание наконец не остановится[19]. Агнес стиснула холодную руку отца Тристана, лицо ее побледнело.
– Прошу вас, отче! – всхлипнула она. – Господь не мог этого пожелать! Как он может допустить такое?
– Господь допускает множество других скверных вещей. Нам не дано Его понять. Но, может, я и ошибаюсь и это простая лихорадка.
Агнес в надежде взглянула на монаха, но, заметив его пустой взгляд, поняла, что отец Тристан хотел лишь утешить ее.
Тот осторожно убрал с ее лица непослушный локон и тихо сказал:
– Он спрашивал тебя. Тебе лучше пойти к нему. Должно быть, у него к тебе что-то важное.
Агнес кивнула, поджав губы. Затем подобралась, встала и, вскинув голову, направилась в башню, в комнату умирающего отца.
* * *
Трактира еще не было видно, а Матис уже слышал смех и песни.
Солнце уже зашло, и обычно в это время на Анвайлер опускалась тишина. Но в этот вечер все было иначе. По договоренности с городским советом стражники открыли ворота и впустили ландскнехтов в город. Официально был заявлен праздник в честь солдат, обезвредивших Черного Ганса. Но, по слухам, наместник просто боялся, что ландскнехты со злости могли разорить окрестные селения. Поэтому сочли за лучшее впустить их в город и позволить им остудить пыл. Правда, оружие, включая порох и аркебузы, солдатам пришлось оставить у ворот.
– Пойдем в «Зеленое древо», там сегодня жарче всего! – заявил Гюнтер и потащил за собой нерешительного Матиса.
Они шагали вдоль оживленных улиц, местами освещенных факелами и фонарями. Нога и шея у Матиса по-прежнему были перевязаны. Ко всему прочему, он надел шерстяной капюшон, скрывающий лицо.
– Ну, идем уже, трусишка! – велел Гюнтер. – Никто тебя не узнает в таком виде. Остальные уже заждались!
Во многих окнах еще горел свет. Некоторые кожевники стояли вдоль переулков и поднимали в честь победителей пивные кружки. Смех и музыка становились все ближе.