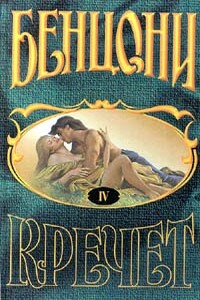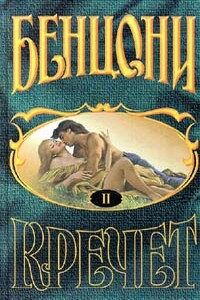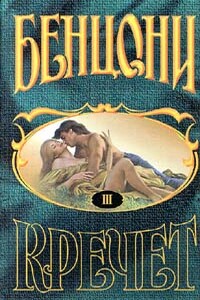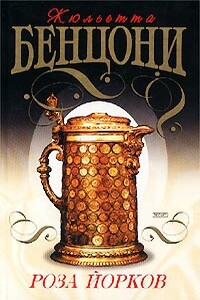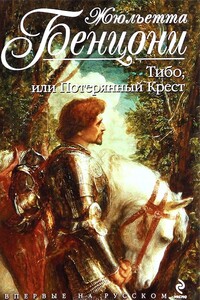Но как бы она повела себя, если бы могла узнать, что фамилия принадлежит лишь матери Жиля и что он незаконнорожденный? Думая о презрении, даже скорее об отвращении, с которым девушка наморщила бы свой маленький носик, покрытый пятнышками веснушек, и поджала свежие губки, юноша ощущал, как в его груди поднимается смертельное бешенство. Почему Господь так поступил с ним?
Когда, испытывая такое чувство, он спрашивал об этом Розенну, вырастившую его старую служанку, та ограничивалась в ответ лишь тем, что ласково улыбалась и гладила его по щеке. Потом она всегда говорила:
«Я, уверена, что Бог предназначил тебя для себя с самого твоего рождения, малыш! Ты же знаешь, что ты должен служить Ему всю твою жизнь.»
Долгое время такое объяснение его устраивало. Но вот уже два года, с тех пор как ему исполнилось четырнадцать лет, оно не казалось ему более столь бесспорным. К тому же Жиль и сам изо всех сил стремился разрушить его, используя все возможные аргументы, которые подсказывала ему юношеская логика. Не мог же Господь бесповоротно решить еще до его появления на свет, что он будет предназначен для служения Церкви? А уж если Он и сделал так, то, по крайней мере, Он должен был бы внушить своему избраннику мысль, что это и есть его истинное призвание.
Но Жиль этого не чувствовал. Его набожность была искренней, глубокой даже, но у всех молодых бретонцев его лет она была такой же пылкой.
Бог был для него неким огромным, таинственным высшим существом, устрашающим и бессознательно жестоким, потому что его служители обязаны были целиком отказаться от всего лучшего и прекраснейшего, созданного Богом: от земли с ее неисчислимыми сокровищами, от ее бесконечной нежности. Чем старше Жиль становился, тем сильнее испытывал он отвращение к этому суровому служению. Он гораздо лучше представлял себя в треуголке солдата короля, украшенной золотым галуном, чем в куцей черной сутане с залоснившимися локтями, одежде, достойной слуги Бога! К несчастью, его мать бесповоротно решила, что он станет священником.
Мать! Когда он представлял себе лицо Мари-Жанны Гоэло, то испытывал странное чувство, складывающееся из стольких ощущений, что ему не удавалось определить, какое же ощущение главенствует. Это было нечто вроде благоговения, мешающегося с боязнью, а также, с той поры как он превратился в подростка, — с гневной злостью. Если бы она только захотела, то в ответ на малую толику любви ребенок отдал бы все обожание, всю нежность, какими обладал. Но Мари-Жанна не захотела этого ни разу в жизни.
С самых давних пор, куда только достигали его воспоминания, Жиль чувствовал, что мать отталкивала его, мать, которая ни разу в жизни его не поцеловала, и если бы не тепло, которое он испытывал в присутствии Розенны, с ее брызжущими через край энергичной заботой и нежностью, совместная жизнь этих двух существ, связанных все же тесными кровными узами, была бы лишь одним долгим молчанием вплоть до поступления мальчика в коллеж за шесть лет до описываемых здесь событий.
Именно от Розенны Жиль немного узнал об обстоятельствах, предшествовавших его рождению, разбивших жизнь его матери и наложивших на него клеймо незаконнорожденного. Это была довольно банальная, классическая история соблазненной и покинутой девушки, но неистовый нрав Мари-Жанны поднял ее до высот греческой трагедии.
Дочь хирурга, служившего в военном флоте, ушедшего после ранения в отставку и обосновавшегося в городишке Пон-Скорфф, Мари-Жанна Гоэло не знала своей матери, умершей при родах.
Мать ее была красивейшей камеристкой графини де Талюэ-Грасьоннэ, замок которой, Лесле, был расположен по соседству с Пон-Скорффом. Графиня продолжала оказывать покровительство девочке после смерти ее матери и выдала ее замуж за Ронана Гоэло.
Заботами графини девушка получила превосходное образование в монастыре Кемперле, где Талюэ проводили зимние месяцы. Она была серьезным ребенком, редко показывающим свои чувства, но тем не менее привлекала внимание своей слегка суровой красотой, безукоризненными чертами лица, густыми темными волосами и прекрасными глазами того же цвета, что и волосы.