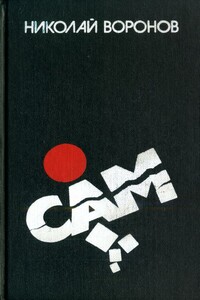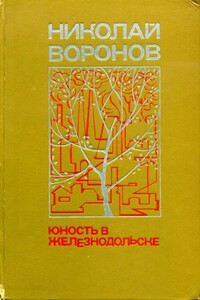Однажды, когда они лежали без сна далеко за полночь, отворотясь друг от дружки, Стеша сказала, что фронтовой тлен навряд ли приятней заводского и что она согласна его отпустить, как только он подыщет себе свеженькую девушку или такую женщину, которая во время войны в сыр-масле купалась и никакого телесного урона не понесла. Он попросил у жены прощения: забылся, себя-то не учитывал. И в самом деле, не могли не втравиться в него запахи войны: земляночная духота, смрад артподготовок и чад пепелищ, карболовая вонь банных прожарок, где из обмундирования истреблялись насекомые, яд разложения в пору летних боев… Непрестанное потребление водки (красиво это только в песне: «Мои фронтовые сто грамм…») и всяческих трофейных напитков — чуть с чем смешаешь — не давало телу очиститься от похмельного перегара. Лишь на переформировании и в госпиталях, особенно в госпиталях, нутро истребляло из себя, по крайней мере ему казалось, газовую проказу пережженных спиртов.
И, в душе покаявшись перед Стешей и проникнувшись мыслью о фронтовом тлене, внедрившемся в него, Никандр Иванович все же подстерег себя на том, что боится не справиться при помощи сознания с тем, что необходимо его чувствам. А на другом он не то что подстерег себя — поймал, уличил: избаловался, паразит, подавай тебе разнообразие и то, о чем Стеша по неиспорченности не догадывается и сроду не узнает.
Для Степаниды, которой помнилась жадная до остервенения довоенная любовь Никандра (нередко она воспринимала ее наподобие вынужденной пытки), поведение мужа было неожиданным и потому вдвойне несправедливым. Почти не желает и совсем растерял человеческую тактичность: смурыгает, б носом удто сивухой и еще черт знает чем разит не от самого, а от нее. Но притом, что ее тяжело задела эта несправедливость, как поездом сшибло, Степанида не могла допустить, что ей необходимо разойтись с Никандром. Чересчур надолго расставались. За войну один-разъединый разок приезжал на побывку после излечения в госпитале и такой подарок оставил, что не дай бог для того страшенного времени: забеременела Андрейкой. Надолго расставались. Отвык. И чувствует: заводил там сударушек. Здесь некоторые из их же цеха бабенки баловались: война донельзя затянулась, выживем ли, без ласки хоть белугой реви, так чего же противиться природе, да ах, завейся, горе, колечками. А там? Сейчас есть, через секунду как не было тебя на свете. Говорят, дескать, кому не хотелось урвать перед лицом очень возможной гибели? По ее разумению, подлые это слова. Были урваны. Но смысл не в них. Бесконечные миллионы людей, какие должны были ухаживать за землей, а они, бедную ее, уродуют, изничтожают; детишек тетешкать, а они с оружием нянькаются; жен миловать, а они обнимаются с винтовками, — эти бесконечные миллионы лишились своего нормального природного назначения. Да как же им по нему не маяться? Отсюда как ты осудишь мужчину за то, что приголубил женщину в пекле войны, хоть он, может, и доводится тебе родным мужем? Пусть это было. Оно должно забыться, отлечь от сердца, как то, чего не предусматривала природа, создавая нас. Порчу человек сам на себя напустил, и сам обязан ка́зниться да исправляться.
Усвоившая убеждение: все ненатуральное — противно, она испытывала отвращение к надушенным и размалеванным женщинам, называла их цыпочками, дамочками, о б л и з ь я н к а м и. Ночной разговор с мужем навел ее на сомнение: по всей вероятности, они, душась и красясь, не только исходят из намерений привлечь, блудить, захапать в мужья или в любовники, но и устраняют врожденную непривлекательность, а также изъяны, принесенные страданиями: голодом, гибелью близких, одиночеством, надрывом нервного и физического здоровья. Стала приглядываться к ним, иногда осмеливалась и спрашивала, чем волосы моют, чтобы устранить седину, изменить масть, какими духами опрыскиваются. Однажды повернула за прошедшей навстречу ей «английской леди»: чернобурка, в которую полуупрятала лицо, пальто, крытое темно-синим бостоном, резиновые ботики под туфли на высоком каблуке, — повернула из-за красивого запаха духов: терпко-жгучего в первое мгновение, затем роскошно благоухающего, как цветущий шиповник, но совсем на него непохожего, напоследок — нежного, как далеко отнесенный по ветру аромат жимолости.