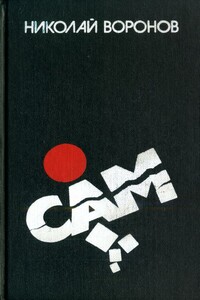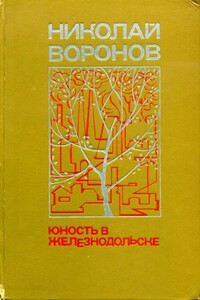— Исключения. Запомни: песню про Ермака Рылеев сочинил. Никандр Иванович, что я хочу до твоего ума довести? Не до сознания — до ума, до сознания ты еще не дотянул. Довести то, что нужды было невпроворот. Стеша должна была тебе рассказать: близнята-мальчики, мои сынки, после гражданской с голоду померли. Наше горе маленькое. Целые семьи вымирали, станицы, заводы. В городах смерть людей собирала, словно ветер листву.
— Известно. Ты скажи: вина чья?
— Вина лежит на социальной ситуации, созданной эксплуататорами.
— Все-то ты определил, тестенёк. Дивлюсь на тебя.
Степанида сквозь обиду слушала спор мужа с отцом. В то, о чем говорили, не старалась вникать. Было у них таких споров-раздоров предостаточно. Обрыдли. На ком вина, она старалась не думать. Зачем травить себя, если минувших событий не переменить. Отца не судила. Хромой, а облетал Россию от Урала до Польши. Правда, свербила где-то в сердечушке тоска: письма слал в год по обещанию, понаведался в Сыртинск лишь в гражданскую да перед коллективизацией, да и то военные и хозяйственные поручения заносили. О судьбе ее он не пекся: спокоен был. В тридцатом году вызвал сюда, на работу устроил, в крепкий барак поселил. Сам тоже обитал в рабочем общежитии. Однако забегал к ней редко. Чтоб учиться стала в техникуме, не настоял. Внушал: учись, а надо было заставить. От замужества не отговорил. Не скажешь, что не намекал. Рано-де, но не отговорил, хотя Никашку не пригреб к душе: «Не моего поля ягода». К уловке прибегал:
— Поперечу твоему замужеству, — после, ежели что, будешь сетовать: твое счастье сгубил.
Понятно, загружен был заботами сверх головы. Однажды таким и приснился: выпрастывался из-под навала соснового горбыля, седые волосы чуть покажутся между досками, их опять завалит корьем, щепками.
Участия Степанида желала со стороны отца. В кои-то лета собрались к Вероньке. Всколыхни в себе заботу. Не «эмку» дай, так полуторку. Расщедрись по-родительски. Угой[12] единственный раз для памяти и дочерней приязни. Не угоил. И еще рассчитывал найти у нее поддержку, спросил, как она расценивает спор. Слушай она внимательно, и то бы вникать не стала, кто в чем прав. Тридцать третий и тридцать четвертый годы, когда не каждый день хлеб ели, когда Люську и Галю, вторенькую, на чужих старух оставляла (в ясли не могла устроить) на тюре из прогорклой ржаной муки да на крахмальном киселе, который подкрасить было нечем, дались до того тяжело, что она отвыкла думать об общем, что с давних пор держал впереди всего ее отец. Как завертело ее в те два гиблых года вокруг детей и семьи, так она и продолжала кружить возле них, мало-помалу успокаиваясь в этом году, который был гораздо легче, и все же прикупая впрок и пряча от чужих глаз (донесут — испытаешь горюшко) соль, муку, топленый курдючный жир, махорку, катушечные нитки, отрезы шелка и шевиота.
Что она могла ответить отцу? Разве то, что еще не полностью охолонула от голодных тревог и что в гостях у Вероньки, беззаботная, по всей видимости сумеет почувствовать, какая это радость — спасти детей и себя с мужиком уберечь. Еще могла бы прибавить: лихо доводит людей почти до волчьей повадки — нечем поживиться, так друг дружку рвать готовы́.
Добирались так, — как нарочно, чтобы закоренела обида на отца, — с историями. Потянулись на трамвай не спозаранок: едва проехали на завод рабочие утренней смены. Жили в землянке на Коммуналке; у всех были участки по счету, начиная с Первого и кончая Четырнадцатым, а их участок почему-то назывался Коммуналкой, несмотря на то что там обретались не в бараках, по многу семей, а на особицу — в землянках, сложенных из степных пластов, которые нарезали на противоположном берегу пруда не плугом — лопатами, штыковой и совковой. На остановке Базар сели на трамвай. Отвоевали, благодаря дочкам, места. От Базара до Тринадцатого был самый крутой уклон. Здесь обычно трамваи спускались с предупредительным трезвоном, с притормаживаниями, с хрупаньем песка, подсыпаемого из песочниц под колеса. Молоденькая вагоновожатая, по всей видимости, забылась. Вагоны набрали большую скорость. Она тормознула, колеса заклинило, и помчался трамвай юзом, да на беду песочницы испортились. В конце уклона была остановка. На ней стоял трамвай. Он побежал, подхлестнутый трезвоном, но ускользнуть все же не успел: их трамвай стукнулся в его последний вагон. Крику было! Кто стоял, поушибались. Им подфартило, что места захватили: испугом отделались. Вагоновожатая грудь отбила, стеклом порезалась. Покамест отправили в больницу и другую доставили, пришлось ждать. От элеватора автобус уже уехал. Попутные грузовики ушли. Сидели до вечера. Добрались до Сыртинска к полуночи, под проливным дождем. К счастью, дети не заболели. Весь отпуск было солнышко. Выдалось клубничное лето. Наварили два эмалированных кедра варенья. Насушили клубники на пироги да в горячий чай бросать для запаха. Купались на Урале, в спокойных заводях, среди кувшинок и лилий. Веронька, чистотка и хлопотунья, ни разу с ними не выкупалась. Лишь иногда прибежит на берег, порадуется на них, насыплет племянницам в головные косынки стручков чечевицы и сахарного гороха — и скрылась в пойменных травах. Вставала Веронька на рассвете. Подоит корову — в табун, польет огород — и за приготовление завтрака.