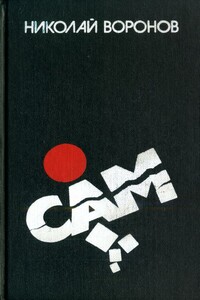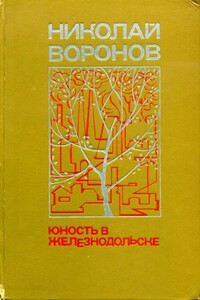Затоптал окурок в траву, прислушался. Тут и прострочилось сквозь туман захлебистое верещание свистка.
«Неужели заметили?»
Верещание повторилось и либо отдалось звуковой дробью в долине, ниспадающей к пруду, либо кто-то отозвался на него свистом, порывисто и рьяно.
Никандр Иванович вскочил и глядел, учащенно дыша, на угол склада, ближний к высоковольтной мачте, из-за какого должен был появиться Андрюша.
Андрюша не появлялся. Опять на складе наступила тишина. Правда, ненадолго: затем возник какой-то переполох. Но обоюдный гвалт голосов, женского и мужского, разнесло громогласным, напряженным, высоко взвившимся гудком металлургического завода, и Никандр Иванович не разобрал, что на складе стряслось.
Гудок будто прорубил отдушину для звуков в порыхлелом тумане; начали докатываться звонки трамваев, рокоты мачтовых кранов, дотягиваться реактивные свисты примостившегося за буграми аэродрома.
Туман разъяли сквозняки. Чтобы следить за складом, надо смотреть напротив солнца из-под локтя.
Тревога. Лоб как накаленный. Занемевшие ноги. И сохнет во рту. Где же он, Андрейка? Поймали? Нет-нет. Наверняка удрал. Может, вообще миновал склад и спокойно дрыхнет дома? А свистки?
Никандр Иванович стянул с себя фуфайку, пошел обратно.
Когда он, поддерживая велосипед ногой, замыкал будку, на болотце с коромыслом и цинковыми ведрами проследовала Полина.
— Иваныч, куда?
Он кисло сморщился. Полина решила, что ему дурно после вчерашней водки. «Почему так происходит? — подумала она. — Пьют, пьют… Словно с намерением… ополоуметь, что-то забыть и скорей приблизить смерть».
Дома Никандр Иванович прошел по прохладным комнатам, заглянул в кухню. Ни души. В ванной раздался плеск.
— Андрей, ты? — спросил с надеждой.
— Я, сынок.
— А, мама. Андрюша не приезжал?
— С тобой ведь был в саду.
— Пропал куда-то.
— Никуда не денется.
— Тебе бы только о себе печься.
— Напраслина, сынок. Мой интерес к себе еще до войны улькнул под лед.
— К чему тогда скопидомничаешь? За каждую копейку трясешься. На кино мальчишке редко даешь. Управительница.
— Твои капиталы в кучу собираю.
— Какие там капиталы?!
— Знамо, какие. Других не приносишь. Никуда он не денется.
— Денется, дак ответишь.
— Ты чё, сынок, трюхнулся? Ай не радею для тебя? Ты у меня один свет в окне. За тобой лишь бы доглядеть. Ты уж сам за ним следи. На меня давай не сваливай. И так еле дюжу.
Никандр Иванович затопал сапогами, бухнулся в комнате на диван. Потная рубашка прилипла к спине. По коже побежал умиротворяющий холодок.
После изнурительной езды на велосипеде и этой самообманной ярости лежал на диване дряблый, отрешенно опуская и размыкая веки.
Бессилен. Безразличен. Дрема.
Забытье было тонким, наподобие паутинки: скрипнула: половица, и оно оборвалось.
Мимо прошла Степанида Петровна. Прямая спина как закостенела. Правая рука туго прижата к бедру, левая украдкой блуждает под грудью, теперь не больно-то высокой. А выкормила ею всего лишь трех детей. Правда, все были несусветные жадюги. Женщины с ее грудью обычно сдаивали молоко, а эти, как приткнутся к соску, до тех пор не отпустят, покуда не выцедят без остатка. Особенно Люська: захлебывается, орет, грудь ловит, да еще кусала сосок до крови.
Откинула тканевое покрывало на дужку кровати, тихо легла.
Когда заболевает что-то внутри, чаще грешит на желудок, она всегда вот так вот приходит и укладывается в постель и лежит лицом к натянутому на стене байковому одеялу, куда красильщик нанес трафарет из красных, черных, желтых роз.
Никандр Иванович подошел к кровати.
— Стеша, ты что?
— Ничего.
— Недужно?
— Просто отдохну.
— Никогда ты не пожалуешься.
— Не на что жаловаться. Все хорошо.
— Посочувствовал бы. Обсудили бы. Лечиться тебе надо.
— Я лечусь.
— У кого там лечиться. Девчонка. Ты бы проконсультировалась у наших заводских врачей.
— Ты нашу участковую врачиху недооцениваешь. Она въедливая, и душой не охладела. Предлагает лечь на исследование. Не хочется. Без меня вам трудней будет.
— Хо, трудней! Конечно. Но легче. Обследуют. Подлечат. Озабочен я. Нет ясности.
— Эх, ясность, ясность… Если у меня что-нибудь неизлечимое… Не нужна она никому.