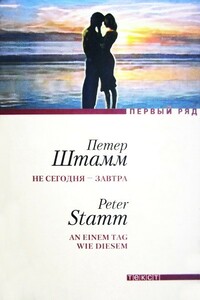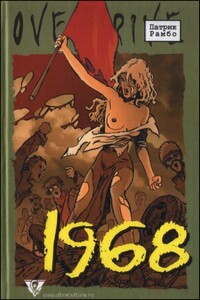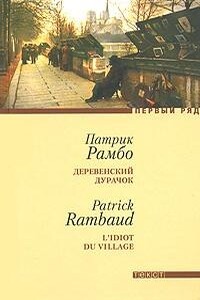— Надо ему помешать! Не позволим вредить нам и дальше!
— Если поставить его судьбу на голосование, он погиб, — заявил рослый депутат, остриженный «в кружок» на манер древних греков.
— Но на заседании будет председательствовать Колло д’Эрбуа!
— И что с того? — пожал плечами другой.
— У тебя с памятью нелады?
— Это почему же?
— Помнишь, сколько лионцев он истребил?
— Смерти тирана он желает не меньше нашего.
— Полно! Он еще хуже, чем тот.
— Мы и с ним разделаемся. Позже.
— Бесстрашный оптимизм!
— Как бы то ни было, власти у него куда меньше, чем у Робеспьера. Вчера вечером в Якобинском клубе его даже освистали.
— Гражданин Делормель, откуда ты это взял?
— Я там был.
Как большинство присутствующих, Делормель пекся в первую очередь о себе. Приземистый, затянутый в голубой редингот с трехцветным поясом, он носил на своей серой фетровой шляпе громадную кокарду, демонстрируя тем самым пылкую приверженность к Республике. Депутат от Кальвадоса, он видел, как нормандские буржуа нахлобучивали фригийский колпак, чуть только политические комиссары из Парижа сунутся к ним с инспекцией: подобно им, склонный к умеренности и соглашательству, Делормель якшался с самыми опасными поборниками крайних мер, ибо очень дорожил своей головой, которую к тому же предусмотрительно втягивал в плечи.
— Смотрите, — сказал он, — представление начинается…
Появился Тальен, человек с повадками хищного зверька вроде куницы; толпа депутатов-заговорщиков расступилась перед ним. Волосы его были всклокочены, бакенбарды топорщились, полностью скрывая щеки, длинный с прямоугольным кончиком нос торчал, глаза беспокойно бегали. Делормель заметил, что из кармана у него виднеется рукоять кинжала. Запоздавшие, не сбиваясь в кучу, по естественному побуждению проследовали за Тальеном в залу заседаний — прошли под аркой, отодвигая в сторону зеленый занавес. Некогда здесь была зала Королевской оперы, для нужд Конвента ее перестроили, сделав амфитеатром. Ряды скамей поднимались уступами до переполненных публикой галерей, что упирались в левую стену, где когда-то стояли кулисы. Желтоватые под мрамор стены украшали овальные портреты Платона, Солона, Брута и спартанского законодателя Ликурга, писанные дешевыми красками на воде. Эта узкая, длинная зала, наполненная нестихающим шумом голосов, в высоту достигала двадцати метров.
В залу вошли Сен-Жюст и Робеспьер. Делормелю с его места было видно, какая суматоха поднялась вокруг трибуны, где председательствующий тряс колокольчиком, как одержимый. Среди всеобщего гама Сен-Жюст приступил к чтению своей речи, ее первая фраза, упрощенная, переиначенная, переходя от скамьи к скамье, тотчас распространилась по зале, однако Делормель, хотя все видел, не разобрал ни слова. Он смотрел на этого страшного человека, вернувшегося сюда из Северных армий, чтобы дать отпор смутьянам. Перед лицом бури, вызванной его появлением, Сен-Жюст хранил невозмутимость — застыл с манускриптом в руках, бледный, неподражаемо изысканный, голова в длинных надушенных кудрях, сам весь в замше, с золотыми кольцами в ушах. Вслед за ним среди толчеи и суматохи на трибуну взошел Робеспьбер. Тут Делормель вскочил, замахал шляпой, другие последовали его примеру, они бушевали, топали ногами, вопили: «Долой тирана!» Им было уже не так страшно оттого, что можно горланить всем скопом. Робеспьер скрестил руки, пожал плечами и в свой черед сошел с трибуны, куда тотчас устремился Тальен, с мелодраматическими ужимками потрясая кинжалом.
— Ты слышишь, что он говорит?
— Не больше твоего! — крикнул Делормель в ухо соседа. — Обличения, надо полагать, и притом весьма красноречивые.
— Он теперь может разыгрывать героя, ведь Робеспьеру конец.
Робеспьер пал в тот же день: погалдев несколько часов, Конвент единогласно ниспроверг его вместе со всей кликой. Ярость вырвалась наружу, соединилась с облегчением, порождая шквал, который обрушился на отверженных, отныне лишенных слова. Злобное веселье обуяло всю эту толпу, так долго дрожавшую от страха. На трибунах для публики воцарился хаос, там, беснуясь, драл глотку молодой человек в блеклом рединготе. Звался он Сент-Обеном, был клерком у нотариуса в квартале Сите, но получил место на посольской трибуне благодаря некоему судебному исполнителю, которому оказал услугу. Длинные волосы Сент-Обена развевались, он жестикулировал, потрясая кулаком, а когда жандармы повели новых обреченных к выходу, он вместе с потоком зевак ринулся следом, перепрыгивая через ряды, по скамьям, как по ступеням, работая локтями, и мимоходом почем зря давя сапогами легкие щегольские туфельки.