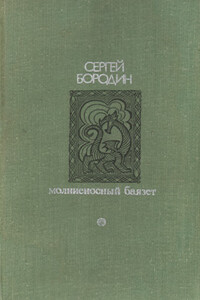— Из Мавераннахра? — строго спросил старик Фазл-улла. — О чем там люди теперь поют?
— Много разных песен.
— Спойте нам.
Халиль, не уверенный в своем голосе, просил петь Низама. И, взяв из чьих-то рук дутар, Низам долго прислушивался к его ладу. Он звучал ниже и глубже, чем дутары Самарканда. Но вскоре Низам овладел этими струнами и тихо спросил Халиля:
— Что петь?
— Мы с тобой на чужбине, брат Халдар! Спой мою любимую из песен Камола, — шутливо ответил Халиль.
И Халдар запел о чужбине:
Эта шумная улица кажется мне пустынной.
Нет друзей у меня, и разлука тому причиной…
Старец закрыл глаза и, подняв лицо к темному небу, зашептал слова, видимо хорошо ему знакомые; Халиль уловил:
Здесь чужие дожди, и чужая на обуви глина…
Старец обвел всех печальным взглядом, и все ответили ему взглядами, когда Халдар, высоко подняв голос и забыв о дутаре, допевал:
…Я брожу и мечтаю о родине милой…
О чужбина, чужбина, чужбина, чужбина, чужбина!..
Все помолчали после этой песня. Наконец старец сказал:
— Он родился вашим земляком. Умер нашим земляком.
Халиль, сожалея о покойном поэте, вздохнул:
— Да, Камол Ходжентский.
— Я видел, как он бедствовал, как нищенствовал, как умер в Тебризе, не имея пристанища, на голой циновке, с камнем под головой вместо подушки. И нам нечем было ему помочь. Хромой все разорил вокруг. Все ходили босые, голые, голодные. Камол!.. Двенадцатое лето идет, как он умер. Они с Хафизом, как два соловья, перекликались. Камол у нас, в Тебризе, Хафиз — в Ширазе. И почти вместе покинули мир, чтобы петь в садах аллаха.
Низам Халдар шепнул:
— Они говорят «Хромой». Слышали?
Халиль провел ладонью по руке Халдара:
— Молчи. Послушаем.
Старец вспоминал:
— Он жил среди нас в Тебризе. Явился Тохтамыш-хан. Слез, и крови, и горя не меньше было, чем от Хромого. И Тохтамыш увел Камола к себе в Орду, в Сарай. Тохтамышу был нужен собственный соловей в Сарае. Лет пять мы ничего не знали о нем. Но он вернулся. Вернулся к нам, чтобы бедствовать вместе. Только нам довелось его пережить. А переживем ли мы бедствия?.. Переживем ли? А ведь Камол мечтал об этом! Ты, милый Имад-аддин, пел эту песню. Спой нам, Имад-аддин!..
Молодой голос откуда-то из мглы негромко предостерег старца:
— Отец! Рядом, у Паука, пируют. Там цареныш появился. Если они услышат, не было б беды.
— Им не до наших песен. А вокруг простые люди, сами не смея петь, запершись у себя по домам, прислушиваются. Пусть и гости из Мавераннахра послушают своего Камола, — ведь этот поэт учился в Самарканде, к нам оттуда пришел.
Молодой человек высунулся, чтобы взять дутар. Ненадолго его лицо приблизилось к светильнику, и Халиль увидел желтоватое, словно выточенное из слоновой кости, лицо юноши, но не уловил взгляда его странных, показавшихся раскосыми глаз.
Маленькая, с короткими пальцами рука протянулась к дутару, и, откинув другую руку, Имад-аддин задумался, припоминая слова.
Вскоре он уже пел, отодвинувшись во мглу:
Самому султану не покорить тебя, влюбленный.
Ни цепям, ни темницам не смирить тебя, влюбленный…
Он пел о милой, но казалось, что милая эта не простая девушка, что не любовью юноши рождена эта песня, что поет певец о любимой родине и что нет в мире силы, чтобы сломить эту любовь.
Но Халиль слышал в ней только славословие стойкой силе простой любви.
Песня взволновала Халиля. Милая была так далеко — за грядами гор, за песками степей, за волнами широких рек… Но где бы ни была она, а он — с ней. И это незыблемо. Чуть закроешь глаза — и видишь эти серые створки бедных ворот. Низенькая, с высоким порогом калитка. Виноградные лозы на корявых опорах. Прудик под раскидистым деревом…
О Самарканд!
Резвые ноги, оставляющие на песке узкий след. Быстрый, сразу все понимающий взгляд веселых глаз. Быстрый, чуть хрипловатый и чуть растягивающий слова голос… О Шад-Мульк!
Песня взволновала Халиля. Он тихо повторил Халдару:
— Поговорим потом. Пока послушаем.
Его слух, обострившийся в походах, уловил легкий стук кольца в воротах, скрипнула створка, кто-то пришел и поднимался, постукивая каблуками по каменным ступеням.
Вскоре на крыше показались еще трое азербайджанцев.