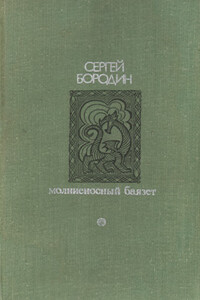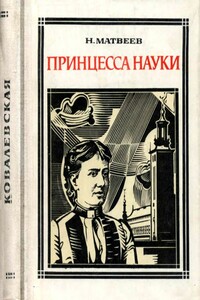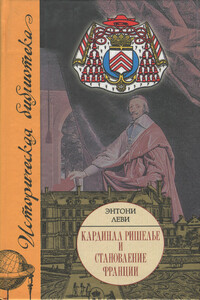— Поставьте-ка его, я сам спрошу.
Пленника поставили. Ему было трудно держаться на ногах, и воин, пленивший его, поддержал его под локоть.
Спокойно и, как бы увещевая, Тимур спросил:
— Язык, что ль, отнялся?
Пленник теперь, когда его поставили, повел вокруг глазами и впервые сказал:
— Ночь уже.
Это были его первые слова за весь этот день.
— Вот и скажи — кто дым пускал?
— Люди.
— Какие такие?
— Своей земли хозяева.
«Почему он прежде молчал, а вдруг заговорил?» — подумал Тимур.
Султан-Хусейн побледнел от досады, что, промолчав при всех прежних расспросах, этот негодяй отвечает деду. Теперь дед подумает, что прежде не сумели допросить!
— А сколько у тебя своей земли?
— У меня своей нет.
— А говоришь «хозяева»!
— Здешние люди здешней земли хозяева.
— А, ты вон о чем! Кызылбаш?
— Нет, адыгей. Адыгей.
— И как тебя звать?
— Хатута.
— А заодно с тобой тож [так] адыгеи?
— Здешние люди.
— Кызылбаши?
— Азербайджанцы.
«Почему он начал говорить?..» — напряженно думал Тимур, рассеянно спрашивая Хатуту.
— Азербайджанцы? А чего ж ты с ними спутался?
— Мы заодно.
— Кто это?
— Здешние люди.
Тимуру не понравился столь прямой, почти вызывающий ответ. Повелитель с трудом сумел сдержать себя от гнева и по-прежнему спокойно, как бы попрекая, кивнул:
— Вон оно что! Свою землю берегут от меня.
И вдруг подумал:
«А ведь и Шахрух тоже! Так же вот — землю, которую я ему дал, от меня прячет, от меня бережет. Затем и письмо послал, прикинуться послушным, мне глаза отвести. А с его согласия, в согласии с ним, его змея своих прихвостней на место моих людей повсюду натыкала. По всей той земле, что я ему поручил блюсти, они со своей царевной своих слуг заместо моих ставят! Вот оно что! И сей сынок от меня отпасть хочет. Не как Мираншах, — не дуром, а потихоньку, неприметно, с наипочтительнейшими поклонами обособиться от меня; затем и пишет так: я, мол, ведать не ведаю, что повелитель в походе; отцовых дел не касаюсь, куда посажен, там тихо сижу, до остального мне дела нет! Вот оно что! Ну что ж…»
— Выходит, я землю беру, а хозяева у нее остаются прежние… Какие хозяева!
Пленник не понял этих слов, но не переспрашивать же этого старика, в словах которого не было ни гнева, ни пренебрежения.
В Тимуре закипал гнев на сына, на Шахруха, и этот хилый, полуживой пленник уже меньше занимал Тимура. Расспросить его надо было, но окружающих удивляла и снисходительность к пленнику, и рассеянность Тимура.
— У меня своей земли тут нет! — повторил Хатута.
— Чужую, значит, пахал?
— Не пахал. Я сперва овец пас, а тем летом рыбу ловил. Рыбу ловили на базар, до самого нашествия ловили.
— Где?
— Неподалеку тут, под Ганджой. На Куре.
— Осетров?
— Лавливали.
— Разве адыгеи рыбу ловят?
— Когда баранов нет, а есть надо.
«Почему он разговорился?» — не мог понять Тимур, дивясь, с какой охотой и как доверчиво отвечает этот измолчавшийся мальчик.
— Сколько вас там, хозяев?
— Откуда мне знать?
— Берегись. Тебя заставят вспомнить.
— Если бы ты был самим великим падишахом, как заставишь? Как я скажу, когда не знаю?
— А кто был другой с тобой?
— Рыбак.
— Еще кто с вами?
— Все люди своей земли.
— А с этим… С этим рыбаком кто был еще?
— Нас двое с ним. Нас у него восемь человек рыбачило, а когда он собрался в горы, одного меня взял.
— Тебе одному доверял?
— Да нет — я был пастухом, легче хожу по горам.
— А что он говорил, когда тебя звал?
— Говорил: надо старое сено сжечь. Чтоб мышиные гнезда не расплодились. Мы зажгли, он говорит: «А теперь бежим, они нас загрызут за эти гнезда».
— Почему ты молчал, когда тебя спрашивали?
— Лень было говорить. Спать хотелось. Мы всю ночь на эту гору лезли.
— Врешь! Небось целую ночь просидели на горе, поджидали, на дорогу поглядывали. А?
— Я не говорил, что мы прошлой ночью туда лезли. В другую ночь лезли. А прошлую ночь сидели в шалаше, на дорогу глядели. Это верно, глядели в долину. Сверху далеко видно. Да больно уж холодно там ночью. Разве заснешь? А потом меня везли, днем не давали поспать. Вот я и молчал.
— Врешь! Не потому молчал.
— А что отвечать? Они тоже спрашивали, сколько нас. А что попусту отвечать, когда они сами видели: нас было двое.