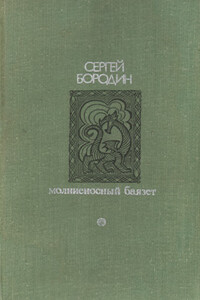О соблазны, о искушение путников — неведомые города и неизведанные радости! Мулло Камар предпочитал неторопливую беседу в харчевне или в бане, в полуденный час на краю базара, под древесной сенью или у мраморных водометов, какими полна прекрасная Бурса.
Ему рассказывали, что здешние купцы уже сговариваются с константинопольскими греками о цене на дома, на караван-сараи, даже на греческие монастыри в Константинополе, ибо, когда султан Баязет займет Константинополь, бурсские купцы захотят иметь там свою собственность. Рассказывали, что греки, смущенные благородством турков, желающих купить то, что вскоре они могут взять даром, как военную добычу, охотно отдавали за бесценок лучшие здания города. Даже составились особые понятые, дабы свидетельствовать о сделке: один из них — турок, другой — христианин.
Рассказывали, что войска султана Баязета уже подошли вплотную к Константинополю и ныне город открыт лишь с моря да по узкой береговой полосе, что, едва пройдет эта зима, султан въедет в Константинополь.
— А с востока надвигается амир Тимур! — как бы невзначай высказал свои опасения Мулло Камар.
— О! — отмахивались собеседники. — Не посмеет сунуться. А сунется тут и останется. Не знает он, что ли, нашего отважного Баязета? Молниеносного! Непобедимого Баязета!
Но более осторожные передавали слухи, исходящие сверху, из крепости:
— Султан рассчитал так: взять Константинополь. Оставить там охрану, на случай появления франкских рыцарей, а все войска, как только освободятся, двинуть на Хромого Тимура, сбросить его в море Каспий и простереть пределы своего царства до Кавказских гор, а потом пойти на Иран, где некому с ним бороться. И царство османов расширится от Бурсы до Басры!
— А там — один шаг и… Индия! — восклицает другой собеседник.
Такие беседы в харчевнях влекли Мулло Камара сильнее, чем стоны бубна и мольбы дудок в приютах, где пляшут красавицы.
Наконец Мулло Камар нагляделся на Бурсу, утолил жажду ее прозрачной водой: близилась осень.
Бурсу рассекал и делил надвое стремительный горный поток. По ту сторону жили армяне и греки, по сю — мусульмане. Идя над водоворотами по древнему мосту, сложенному еще римскими рабами, может быть теми же, что построили водопровод в Халебе, Мулло Камар качнул головой: «Эх! — слыхал я про халебское чудо, а посмотреть так и не удосужился!»
С мусульманского берега он перешагнул в тесноту армянских проулочков и там после настойчивых поисков нашел деревянный невзрачный дом Вахтанга-аги, занимавшегося перевозкой бурсских кладей через горы Тавра.
Здесь, дожидаясь дня, когда выйдет караван на Тавриз, Мулло Камар приглядывался к мирной жизни армян — к играм детей, к хлопотливым скромным женщинам, прявшим шерсть, или вязавшим бесконечные чулки, или месившим тесто. Хотя зола накрепко прилипала к тесту и потом хрустела на зубах, армянские пресные хлебцы полюбились Мулло Камару. Ему по душе был мирный уют армянского дома, скупой, даже суровый уклад жизни и непреклонная верность обычаям, своей вере, своему миру.
Наконец караван пошел.
Мулло Камар, дремля, сидел на осле, а осел шел через многие города султана Баязета.
Кое-где бродяги пытались напасть на караван. Завязывались схватки между охраной и нападавшими. Однажды разбойники отбили караван от стражи. Но из них мало кто заметил серенького путника в серой чалме на сереньком незавидном осле.
— Паломник? — спросили разбойники.
— Во славу аллаха! Возвращаюсь с богомолья… — ответил Мулло Камар. Помилуйте грешника, как милует нас, грешных, аллах милостивый!..
Разбойники, пограбив кое-что и отняв осла у Мулло Камара, скрылись, едва завидев возвращающуюся охрану.
Но рваные сапоги, залатанные лоскутками порыжелой кожи, никого не прельстили.
Пересев на другого осла, Мулло Камар отправился своим путем дальше, через новые и новые города, крепости, селения, постоялые дворы, где хозяйничали воины Баязета, где распоряжались спесивые османы, а торговлю в цепких руках держали греки, армяне и генуэзцы.
Мулло Камар примечал: хороши ли базары и крепки ли стены в тех городах, многочисленны ли воины и воинственны ли. А осел так же понуро шел, дробно переступая копытцами, по городской ли мостовой, мимо высоких стен и древних башен, по нагорным ли тропинкам Понтийских гор, над безднами ли высокого Тавра.