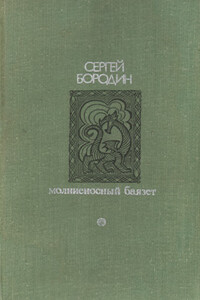Такие, склепанные в одну махину, полчища воинов шли за своим вождем, подминая страну за страной, подавляя народ за народом, и не задумывались, не было ли бедой для других то, что для них самих было благом.
Да и разумел ли кто-нибудь тогда такое благо, которое могло бы стать благом для всех?
Во вселенной многие жаждали могущества. Некоторые овладевали могуществом. Но никто из могущественнейших не догадывался в те времена, что величайшим могуществом мог овладеть лишь тот, кто, упрочивая свое благо, другим народам нес не зло, а такое же благо: могущество крепло не только силой своих плеч, но поддержкой друзей, готовых подпереть своими плечами друга, если одному не хватит сил для тяжких нош, для больших подвигов.
Этого не знал македонец Александр Двурогий, хотя в поисках блага для себя он сплотил десятки тысяч отважных воинов. Он покорял многие страны и победоносно прошел через весь мир, какой только мог охватить своим разумом. Но воинства его схлынули, как волны океана с прибрежных скал, а скалы остались прежними.
Этого не знал Чингиз-хан, добывая блага своим соплеменникам и в чаянии тех благ соединяя монгольские племена и роды. Но монгольское благо завоевателей было злом для тюрков, для славян, для иранцев, для всех иноплеменников, до кого бы ни дотянулись монгольские копья, до кого бы ни долетели смертельные стрелы, — для всех, кто стиснул зубы под тягостью монгольского блага.
Тимур был уверен, что знает благо, насущное для тюрков. Монгольское благо для них было злом, и это зло надлежало искоренить, возвратить вселенную ко временам благоденствия, каким Тимуру представлялась жизнь до монгольских нашествий. Он приметил трещину в монгольском щите и ударил по ней, будя ненависть своего народа к чужестранным завоевателям. И, сокрушая монгольское иго, он полагал, что творит благо для всех. Он был беспощаден с теми, кто это благо считал бедой. Историк Низам-аддин походы Тимура почитал за благо.
Трещиной в щите Александра Двурогого и в щите Чингиза, как и во всех щитах прочих завоевателей, было то зло, какое они несли покоренным народам. Это зло порождало ненависть, и она, год за годом разрастаясь, расширяла трещину в щите завоевателя.
Ненависть, как зерно, могущественно прорастала на угнетенной земле, прорастала годами, десятилетиями, столетиями, и в свой срок росток вдруг отвердевал мечом и пробивал щит завоевателя, свершая благой подвиг, ибо освобождение от угнетателя всегда есть благо и добро.
Ненависть порабощенных, угнетенных, покоренных народов и есть та трещина в щите угнетателя, которая расширяется, доколе не разломит щит, как бы крепок и велик он ни был!
Так за двадцать лет до того на Куликовом поле Дмитрий Донской пробил выкованный Чингизом щит Золотой Орды, полтора столетия подавлявшей Русь.
Так Ян Гус и Ян Жижка прозрели трещину в перехлестнутом белым крестом, в прокопченном ладаном щите римского папы, поднятом королем Сигизмундом над добрым народом Чехии, и готовились ударить по католическому щиту в те годы, когда Тимур наносил удар за ударом по щиту Чингиза, придавившему страны Азии. Щит Чингиза трещал и разваливался под яростными ударами тюрка Тимура.
Но Дмитрий Донской, Ян Гус и Ян Жижка на своих щитах поднимали заповедную мечту соплеменников и соотечественников, а самаркандский щит Тимура множеству вольнолюбивых тюрков казался тяжелее, чем обветшалый щит Чингиза, множеству тюрков, мечтавших жить на своей земле без чужеземных щитов над головой, жить хозяевами родной земли, своей отчизны. Но этому не внимало ухо иранца Низам-аддина, прижатое к стремени повелителя.
Не раз случалось, что меч Тимура, занесенный во имя сокрушения монголов, ударялся то в иранские, то в тюркские, то в иные щиты несговорчивых, непокорных народов. И Тимур неистовствовал, впадая в ярость от того, как непонятливы все эти народы, не желавшие признать, что щит Чингиза есть зло, а щит Тимура — благо.
* * *
Из неприметных расселин, таясь в безмолвных холмах, хозяева своей земли следили за караваном Кайиш-аты. Караван стал на дне котловины у прозрачного ручейка. Старик в белой чалме, в светлом сером халате беседовал с мальчиком, стоящим среди одеял. По напускной важности старика хозяева поняли, что не он главный в этом стане. Мальчик был одет нарочито как все воины на походе, но мальчик не воин, и на него не обратили внимания. Все остальные суетились, двигались, каждый чем-то был занят и увлечен, и хозяевам долго не удавалось понять, кто же главный там, среди этого муравейника. Они видели высокого старика, сутулого, но вдруг распрямлявшегося, что-то кричавшего то в одном, то в другом месте стана. Они видели и сосчитали воинов, несших караул и свободных, видели семерых воинов, отползших от суеты в боковую ложбинку и там, под сенью редких кустарников, расположившихся на разостланных халатах. Все свое оружие они сложили в стороне, засучили рукава и предались отдыху, занявшись игрой в кости. Только один из них иногда вставал и отходил к десятку лошадей, стреноженных, отпущенных попастись вдоль ручья, где трава посвежее. Стоило этому воину подняться на холм, пройтись по его колючей от засохшей травы макушке, и воин увидел бы за этим холмом такую же ложбинку, в ложбинке лошадей, а возле — несколько десятков хозяев своей земли, притулившихся в укромном уединении этого места и готовых снять стрелой каждого, кто заглянет к ним. Однако из стана никому не было досуга бродить по окрестным холмам, искать и разглядывать соседние ложбинки: благо есть место, где позволено постоять станом.