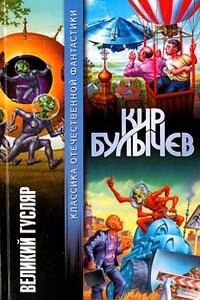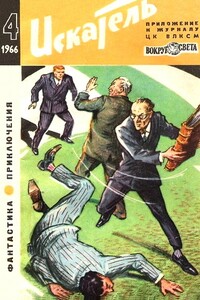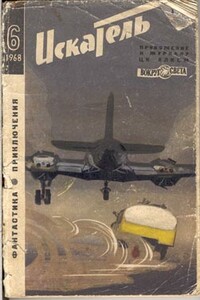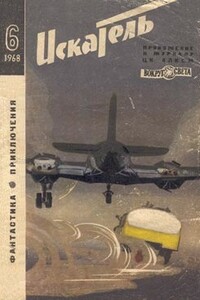На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов, тогда как любой парень со значком туриста потратил бы на его месте от силы шесть–восемь!
Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет.
…Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Севергин встал. Его вытянувшаяся тень скакнула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разыгравшиеся эмоции.
Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но в вышине неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто‑то трогал их, беря аккорды цветомузыки. Золотистые, лиловые, красные — тона были нежные, легкие, высокие, они плыли в фиолетовом хрустале неба лепестками прозрачных цветов.
Севергин поднял голову и шел так, улыбаясь чему‑то, поражаясь тому, что улыбается, и желая себе вечно быть таким, как сейчас.
Не надо спорить с природой — он только теперь это понял. Не надо требовать от нее уюта диванных подушек, надо брать то, что она дает, и любить каждое мгновение своего существования, ибо вдали у каждого все равно смерть. Так стоит ли ненавидеть жизнь за то, что она не вполне соответствует желаниям? Камень падает, река течет, человек ищет счастья, все совершается по своим законам, их надо понять, а спорить — к чему?
Севергин незаметно для себя перешел тот рубеж, который отделяет отрезок жизни, не омраченный близящейся смертью, от последней прямой, когда точно известен час ее завершения. Разные люди пересекают этот рубеж по–разному, но все они открывают за ним что‑то новое для себя — страшное, великое, в чем есть и ужас и примирение.
Небо почернело, но темнота длилась недолго: поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охватывавший колено при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Севергин усилил электрообогрев.
Равнина стала плоской, как разостланная скатерть, но кое–где ее узкими мазками туши пятнали тени, отброшенные редкими стрелками сафара — унылой порослью марсианской травы. Неожиданно Севергин заметил, что старается не наступать на них, и удивился, откуда взялся у него этот бережный инстинкт.
Потом он вспомнил откуда. Как‑то в хмурый и ветреный апрельский день он шел дубовым лесом. Деревья стояли по–зимнему нагие, корявые, землю устилали ломкие листья, и под ногами хрустели желуди, такие же коричнево–серые, как и листья. Приятно было слышать, как хрустят под ногами желуди. В этом звуке отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела. Так шел он, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая‑то бледно–зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся: то оказался росток желудя, уже вцепившийся в холодную землю. И он увидел, что вокруг много таких звездочек, что они везде и что шагал‑то он по ним. На цыпочках он поспешил покинуть лес.
Как тогда, Севергин остановился и нагнулся перед стрелкой сафара. Почему‑то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другое.
Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, косо воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочней стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь, Севергин это знал. Но сафар так же ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была уготована весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы.
С этим тоже следовало смириться.
Внезапно от стебля сафара пролегла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Всходил Фобос.
Севергин выпрямился. Его окружала ярко освещенная равнина. Узкие, сдвоенные тени лежали на ней черной клинописью. Севергин, осеребренный лунами, возвышался над темными письменами как памятник.
И все‑таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью! Часто предметное стекло напоминало поле битвы — так густо усеивали его трупы бактерий, убитых ядами, ультрафиолетом, радиацией. Ни проблеска движения, вот как сейчас. Но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевывало для жизни новую сферу там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки.