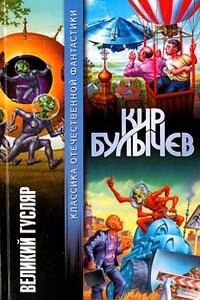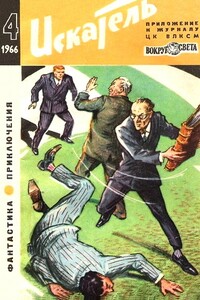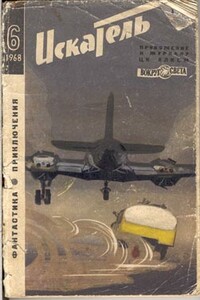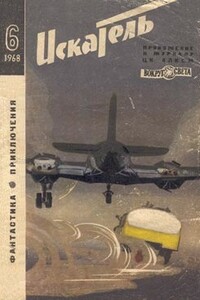Еще не веря себе, Глеб обошел мыс. Светлый пунктир болотных оконцев очерчивал мыс с тыла. В речных бочагах гуляла рыба. Ни траурного пепелища костров, ни следа босых ног на ослепительном прибрежном песке. Приметы весеннего половодья — мочала сухой травы — сигнальными флажками покачивались в кустарнике. Глеб издал вопль дикаря — туристы проглядели этот оазис! Желание исполнилось: он был там, где ему хотелось быть.
Пошли дни, наполненные суетным шорохом трав, невозмутимым движением облаков, горячим светом солнца. Первое время сонно и упоительно кружилась голова. Глеб испытывал чувство, будто у него медленно раскрываются глаза.
Он прекрасно понимал, что его попытка — анахронизм. Может быть, прихоть. Рисовать нетронутую природу, которой уже почти не осталось, — зачем? Был Шишкин, был Левитан, было множество других художников, для которых все это не было экзотикой, — что после них может сказать он?
Замысел созревал долго и трудно — так дерево сначала глубоко пускает корни, прежде чем раскинуть густую крону. Они, его предшественники, смотрели на природу другими глазами. Для них вот такая излучина реки была самой незыблемостью. Он же знал, что она лишь краткий миг уходящего. В этом было его преимущество: он смотрел на природу — ту, что когда‑то владела всей землей, — глазами стороннего человека. Он был жителем страны ракет и умных механизмов: он знал пейзажи Марса, Луны, Венеры. И он был гостем, которому все внове там, где художники прошлого были хозяевами. Гостем жилища, которое подлежало сносу и которое заслуживало последнего “прости”.
Но для гостя вещи хозяина не более чем диковинки или безликие предметы, которые не выдают случайному взгляду свое кровное родство с человеком. Эту трудность Глеб ощутил сразу.
Подобно космическому кораблю, который, чтобы верней достичь цепи, испытующе узит круги над чужой планетой, Глеб, чувствуя неподатливость среды, подбирался к картине годами, с каждой поездкой приближаясь к сердцу темы.
Понять уходящее душой хозяина, не расставаясь со свежестью взгляда пытливого прохожего, — как это было трудно! Прежде всего оказалось проблемой найти нетронутые уголки среднерусской природы. Заповедники не оправдали надежд. В них все как будто дышало подлинностью, но в первый же день Глеб наткнулся на овраг, аккуратно — чтобы ливни больше не ранили землю — перегороженный бетонными стенками. И он уже не смог работать. Ему, словно ныряльщику, приходилось отталкивать весь привычный образ жизни, преодолевать упругость привычек, чтобы достичь дна, где девственно пахнет луговым разнотравьем, Одно неверное движение выталкивала его обратно.
А находить места, где ничто не выдавало присутствия человека, который всюду и везде даже мимолетом перестраивает все по–своему, становилось труднее и труднее. Он уезжал на лето, а когда возвращался, на земле было уже теснее от тех сорока миллионов, которые успевали родиться за время его отсутствия. И этот прирост был как половодье, который затапливал островок за островком,
Художник не сдавался — искал, находил, смотрел, думал. Но не брался за краски. Стрелок нажимает на спуск не тогда, когда он видит яблочко мишени, мушку и прорезь прицела на одной линии, а когда он чувствует, что выстрел будет верным. Так и Глеб ждал подсказки изнутри: “готово”.
Этим летом он услышал подсказку.
Незаметно для себя теперь он старался делать все — ходить, купаться; собирать хворост для костра — как можно тише, словно опасаясь спугнуть что‑то. По той же причине он ни разу не включил мегафон, ибо с щелчком тумблера сюда бы вошел мир громких звуков, напряженного ритма дел, от которого словно исходил ток высокого напряжения. Там, в его мире, имели цену и значение триллионные доли секунд — за этот срок включались двигатели звездолетов, вспыхивали термоядерные реакции. Здесь же часы стояли. Они показывали одно и то же: геологическую эпоху, в которой возник человек.
Однажды утром Глеб пришел в ужас: под кустом он обнаружил кибера. В щупальцах кибера были зажаты хворостинки.
— Кыш, — шепотом сказал Глеб. — Я тебя не звал.
— Ты пришел сюда, я обязан тебе помочь.