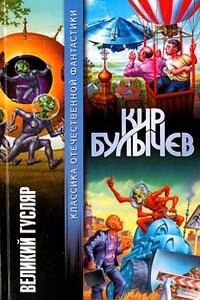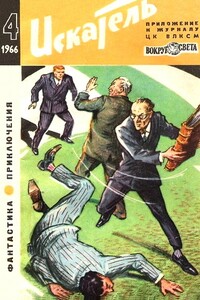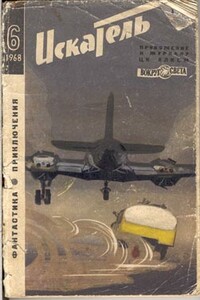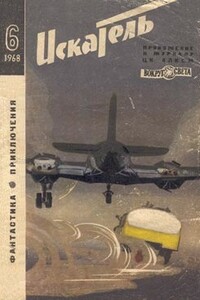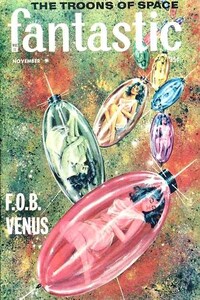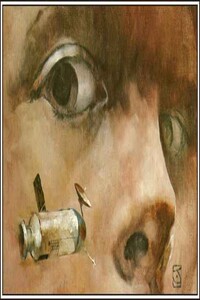Свет белого, как бы перекаленного солнца изменил траву, теперь она казалась не зеленой, а… Может ли бронзовый отлив ее листвы одновременно быть мягким, ковыльно–серебристым? Казалось бы, несочетаемое — здесь сочеталось.
Впереди, левее чащи древолистов, обозначилось едва заметное всхолмление, и Горин повернул туда с той же бесцельностью, какой была отмечена вся его прогулка, хотя сама эта бесцельность была преднамеренной, ибо ничто так не сужает восприятие, как заранее поставленная задача. Приблизившись, он замер с ощущением плевка на лице: перед ним были искореженные бугры и оплывшие ямы. Все давно поросло травой, но еще оставляло впечатление шрама. Даже трава здесь была не такой, как везде, — грубой, однообразной, страшенной, словно сюда стянулась и тут расплодилась вся дрянь, которая дотоле тишком пряталась по окрестностям. Нарушенный почвенный слой, иного и быть не могло! Отсюда брали, брали железом, силой, ладили какие‑то времянки, подсобки, без которых, очевидно, невозможен был сам поселок.
Кулаки Горина разжались. Кто он такой, чтобы судить? Очевидно, людям надо было немедленно дать кров, за горло брала необходимость, освоители не щадили себя, а кто не щадит себя, тот не церемонится и с остальным. До уборки ли тут, у самих руки в ссадинах, успеется и потом, зато главное сделано!
И ведь хорошо сделано… Быстро сделано.
“Это мне легко быть чистоплюем, — с горьким сокрушением подумал Горин. — Может, гут, наоборот, памятник ставить надо!”
Все было, возможно, и порознь, и вместе, памятник порой неотделим от хулы — вот что удивительно в жизни.
Горин двинулся к рытвинам и буграм, чтобы обстоятельно во всем разобраться, но не успел он ступить за черту бурьяна, как услышал позади себя крик:
— Дяденька, не ходите туда! Не надо!
Он в недоумении обернулся. От купы древолистов спешила тоненькая, как стебелек, девочка; ее светлая, в облачке волос головка шариком одуванчика скользила над гущей трав.
— Это почему же мне не ходить туда? — любуясь прелестно разгоряченным лицом девочки, спросил Горин.
— Там водятся проволоки… — с тихой убежденностью проговорила она.
— Проволока, — слегка оторопев, машинально поправил Горин. — “Проволок” нет, так не говорят…
— Есть. — Взгляд синих, как земное небо, глаз девочки был тверд и серьезен. — Туда не надо ходить. Просто вы не знаете.
— А остальные знают?
— Ребята знают.
— Хорошо, хорошо, — согласился Горин, не зная, что и думать. — И как же они выглядят… эти “проволоки”?
— Змейки такие. — Коротко вздохнув, девочка повела в воздухе пальцем. — Тоненькие и прыгучие…
— А–а, понятно…
Горин отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и посмотрел на пологий, в проплешинах бугор. На ногах девочки, как он заметил, не было никакой обувки, а это значило многое: дикая местность считается окончательно обжитой тогда, когда ребенок может всюду разгуливать босиком. И змей на этой планете не было. А вот обрывки проволоки тут вполне могли быть, в траве могли скрываться их петли, а чем это не силок для резвой детской ноги? “Здесь водятся проволоки…” Какой точный, если вдуматься, образ!
— Так взрослые, ты говоришь, ничего не знают?
— Не–а. — Она досадливо взмахнула рукой. — Я говорила, и Тошка подтвердил, а они не поверили.
— Понятно…
“Вот пакость! — рассердился он. — Первая опасность, с которой дети сталкиваются на чужой — чужой! — планете, исходит от… Носом бы ткнуть сюда всех этих мерзавцев! Мордой бы их в эти самые кучи!”
Однако что происходит?
Он смотрел на девочку, девочку–стебелек, босоногую фантазерку с исцарапанными, как в ее возрасте положено, коленками, и в нем нарастала тревога. Как это понимать? Мир всюду становится таким благоустроенным, что крохотный огрех освоения уже видится чудовищным пятном, но это бы ладно! Дети пугаются каких‑то проволочных петель, боятся уже невесть чего. Кем же они тогда вырастут?! А ведь все шло, как надо: главное — забота о человеке, тем более о детях, добро, безопасность, свобода. Тут достигнут, казалось, немыслимый прежде прогресс… Вот чем, выходит, все оборачивается.
— Пойдемте. — Девочка потянула Горина за рукав. — Вообще‑то проволоки только там, но кто их знает…