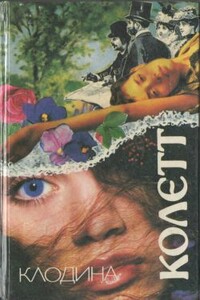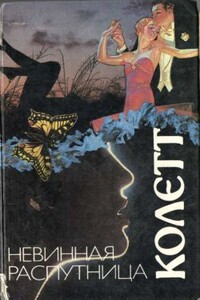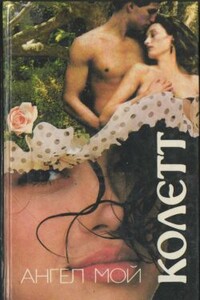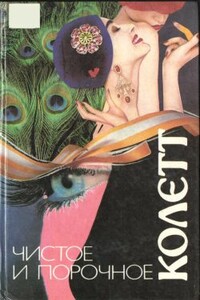Но его приковал к месту коварно дружелюбный взгляд черноволосого статиста с греческим профилем, уставившего на Алена свой единственный широкий рыбий глаз. «Темнота… Темнота…» При звуках этого слова к нему приблизились две длинные тёмные руки, изящно трепещущие тополевыми листьями, и унесли его, чтобы в самую ненадёжную пору короткой ночи Алену можно было успокоиться во временной могиле, где живая душа, покинувшая свой мир, воздыхает, льёт слезы, борется и гибнет, чтобы беспамятно воскреснуть во дне.
Высоко стоящее солнце окаймляло окно, когда Ален пробудился. Жёлтая полупрозрачная кисть ракитника висела над головой Сахи, Сахи дневной, невинной и голубой, вылизывавшей шёрстку.
– Саха!
– Мр-р-р! – воскликнула кошка.
– Разве я виноват, что ты голодна? Никто тебе не мешал попросить молока внизу, коли у тебя такая спешка.
Она смягчилась при звуке его голоса, повторила своё восклицание, но уже тише, разинув ярко-красную, усаженную белыми клыками пасть. Глядя в глаза, полные безраздельной и преданной любви, Ален встревожился: «Боже мой, как же кошка? С кошкой-то как быть?.. Совсем из головы вон, что женюсь… А жить придётся у Патрика…»
Он повернул голову к вправленной в рамку из хромированной стали фотографии, запечатлевшей лоснящееся, точно маслом облитое лицо Камиллы. Широкое слепое пятно света на волосах, губы намазаны стеклянистой чернильно-чёрной помадой, огромные глаза осеняет двойной ряд ресниц.
– Прекрасная работа профессионала, – проворчал Ален.
Он уже забыл, что сам выбрал для спальни эту фотографию, где Камилла не походила ни на себя, ни на кого-нибудь ещё. «Глаз… Где-то я видел этот глаз…»
Вооружившись карандашом, он немного сузил глаза, затушевал излишек белка, но только испортил снимок.
– Мек… мек… мек… м-а-а… ма-а-а… – заговорила Саха, уставившись на маленького мотылька шелкопряда, забившегося между оконным стеклом и тюлевой занавеской.
Львиный подбородок дрожал, она заикалась от волнения. Ален схватил бабочку между двумя пальцами и поднес Сахе.
– Замори червячка, Саха!
В саду лениво побрякивали грабли, разравнивая гравий. Внутренним зрением Ален увидел руку, держащую черенок граблей, руку стареющей женщины в толстой белой перчатке регулировщика, движущуюся плавно и неутомимо.
– Добрый день, мама! – крикнул он.
Голос ответил ему издали, невнятно выговаривая какие-то ласковые, неизбежные в таких случаях пустяки…
Он сбежал с крыльца, преследуемый по пятам кошкой. Дневной порой она превращалась в шального пёсика, шумно сбегала по лестнице и, лишившись всякой таинственности, нескладными прыжками мчалась в сад.
Она уселась на обеденном столике, испещрённом солнечными пятнами, рядом с прибором Алена. Затихшие было грабли возобновили свою неспешную работу.
Ален налил Сахе молока, бросил в него по щепотке соли и сахара и чинно приступил к трапезе. Сидя за столом в одиночестве, он мог не стыдиться некоторых привычек, связанных с бессознательным загадыванием желаний и образующихся у детей в возрасте между четырьмя и семью годами навязчивых привычек. Он мог без опаски замазывать маслом все до единой «ноздри» на ломте хлеба, невольно хмуриться, если в чашке уровень кофе с молоком оказывался выше некоторой предельной высоты, обозначенной каким-нибудь золотым завитком. За первым толстым куском хлеба с маслом должен был следовать тонкий, а во вторую чашку кофе следовало бросить лишний кусок сахара… Словом, совсем ещё маленький Ален, таившийся в высоком красивом юноше-блондине, нетерпеливо ждал конца завтрака, чтобы со всех сторон облизать ложку из горшочка с мёдом, старую ложку слоновой кости, приобретшую сходство с куском почернелого хряща.
«В эту самую минуту Камилла завтракает, расхаживая по столовой, откусывая поочерёдно от ломтика постной ветчины, стиснутого меж двух сухариков, и от яблока. На ходу ставит чашку чая без сахара где придётся и всякий раз ищет потом…»
Он поднял глаза к тому, что с детства стало ему дороже всего, что пробуждало в нем трепетное чувство и что он, как ему казалось, знал хорошо. Старые вязы, неуклонно подстригаемые и смыкавшиеся над его головой, стояли неподвижно, трепеща лишь кончиками молодых листьев. Посреди лужайки красовалась густая поросль розовых смолёвок, окаймлённая незабудками. С изогнувшейся под углом голой ветки усохшего дерева свисали, вздрагивая при малейшем движении воздуха, плети полигонума, свившиеся со стеблями ломоноса с его густо-синими четырёхлепестковыми цветами. Одна из дождевальных установок, вращаясь на стойке, распустила над лужайкой белый павлиний хвост, где то зажигалась, то гасла мимолётная радуга.