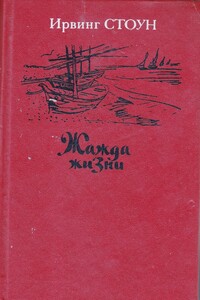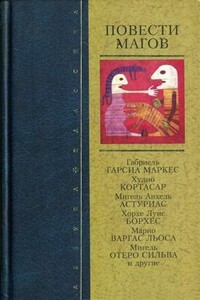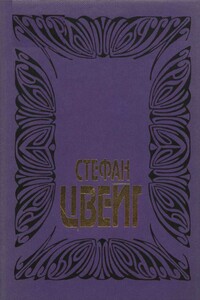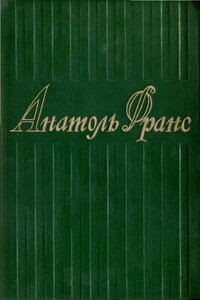Она лежала под тяжестью горя, и холод прежде времени старил ее щеки, и тусклый свет непогоды слабо освещал ее. Лежала и пыталась спастись, вспоминая другую зиму, молодую Гертруду с левой грудью, которую когда-то холодным утром переполняли бодрость и радость, отрезанные неисчислимыми днями от этого, нынешнего дня.
Я видел теперь, как она осторожно движется вспять, пытаясь скрыться в прошлом, пятится медленными, мелкими шагами, ощупывая ногою каждое число. Я видел, как она разрешила войти через балкон первому ветру весны, первому теплу вечеров, сменивших непрерывные ливни. Я видел, как взволнованно и виновато она улыбалась перед зеркалом, застегивая серое шелковое платье. «Слава тебе, господи!» — думал я и стряхивал ее печаль, чтобы предаться собственной печали.
Медленно двигаясь по комнате, Гертруда уже смеялась слабым смехом, очень похожим на далекий отзвук ее прежнего смеха. Она ставила цветы и вино на праздничную скатерть, и, возвращаясь, я нередко видел, как, напевая, она переставляет звонкие бокалы. А потом она стала говорить о своей утрате, настойчиво и весело, словно хотела до дна исчерпать эту тему, исчерпать и забыть.
— Мне уже неважно, — повторяла она и улыбалась решительной, дерзкой, сверкающей улыбкой.
Мне уже неважно, весело признавалась она за столом, и в постели пыталась меня убедить, что ей неважно, подставляя под свет свое обнаженное тело, жадно обнимая меня, прижимаясь ко мне своими широкими бедрами и нарочно избегая тени, чтобы я лучше ее видел. Она глядела на меня без недоверия, без былой пытливости, стараясь отыскать только радость в моем искаженном лице и в движениях губ, неукоснительно произносивших положенные слова. А я научился спокойно смотреть на круглое пятно и представлять себе жестокую метку, чей неразрешимый смысл пробуждал во мне злобу и страсть.
Как раз между этой порой и следующей в уме моем, мимолетная, словно весенний каприз, стала мелькать простая и пока еще неопределенная мысль — а не убить ли Гертруду? Нет, даже не так: не мысль, а помысел, игра воображения и не «убить», а исподволь, мягко вернуть ее к истокам, к рождению, затолкать в лоно матери, в день перед ночью, когда она была зачата, в ничто. Вот ее нет; место, которое она занимала в воздухе комнаты, стало пустым; и, как я ни старался, я ничего не мог о ней вспомнить, мог только вообразить. Теперь Гертруда меня не мучила, исчезновение ее не принесло бы мне пользы, в свободе я не нуждался и потому имел полное право тешить себя мыслью о том, что она умерла, и создавать довольно привлекательного вдовца, сперва безутешного, затем достойно несущего горе, не поддающегося судьбе, находящего усладу в скорби и смирении, покаянно склонившегося перед неисповедимой тайной.
Испробовав домашний затвор и перенеся в упоительные прогулки вновь обретенную радость (ходила она куда-то в центр), Гертруда стала искать счастья без меня, до меня. Она вспоминала времена, когда мы еще не поженились, и старалась вернуть к жизни беззаботную девушку с гордой головкой и длинным упругим шагом. Ей хотелось стать былой Гертрудой и очутиться на углу в Монтевидео, в такую пору, когда легко дышать, и вдохнуть городской воздух, мечтая о каникулах, о природе, о добрых друзьях, о письмах, которые ей шлют и которые она сама пишет.
Я перестал играть в ее смерть, я не гнал ее, но она вдруг захотела поехать к матери, давно никому не нужной и предававшейся в Темперлее бесплодным размышлениям. Ей казалось, что там, рядом с матерью, она встретит другую, неизменно молодую Гертруду. Мать жила одна со старушкой служанкой; окна ее выходили в сад с засохшими, одичалыми розами и увенчанной остриями оградой; телефон звонил редко, раза два в месяц почтальон останавливал у их дома велосипед, звонил и клал в ящик письмо от Ракели.
Каждый день, все отчетливей, будто в наваждении, она видела, как пьет чай с мамой, болтает, ест поджаренный хлеб. Там она обретет, чудилось ей, твердую и добрую почву, там услышит запах родного дома, запах детства, перенесенный из Монтевидео в Темперлей и возвратившийся к ней в чашке крепкого чая, в спокойно выкуренной сигарете, в лимоне с сахаром, в запахе любимого сыра. Ей представлялось, что она отдыхает в невинной истоме, словно греет спину на солнце, слушает, как булькает вода в калорифере, который только жаркой порою выносят из комнаты, и думает о будущем, о нечаянном счастье, как-то связанном с ее увечьем, о победе над незнакомцем, простой и легкой победе над смутно предстающим перед ней мужчиной, которому, без всяких извращений, даже нравится, что у нее нет одной груди.