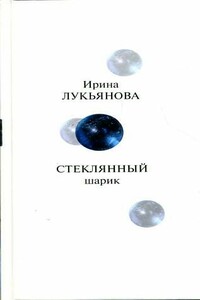Эстетический идеал Чуковского – это гармония между душой и творчеством, формой и содержанием, исповедуемыми принципами и их воплощением на бумаге, сознанием и подсознанием. Но, как любой идеал, это только конечная цель бесконечного движения. Даже гениальный Толстой, даже Чехов не достигли его вполне, хотя они-то как раз ближе всего к идеалу критика. Человек мал и грешен, человек пребывает в сомнениях и борениях, он далек от совершенства. И этим он особенно дорог Чуковскому. Несовершенство, текучесть, изменчивость человеческой натуры, дисгармония и разлад в душе художника становятся объектами его пристального и сочувственного внимания. В 1900-х годах Чуковский не ставил еще цели создавать законченные портреты писателей – в основном он говорил о том неожиданном, непривычном, незамеченном, что ему удавалось обнаружить в каждом из них. В конце 1910-х – начале 1920-х годов он взялся именно за литературные портреты и выказал незаурядное мастерство и психологизм, о чем мы поговорим позже. В это время он и сформулировал окончательно суть своего критического метода.
При всем этом Чуковский не признавал никаких разговоров о политической платформе, группировках и литературных направлениях: «Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов». В России времен реакции эту позицию еще терпели, хотя и поругивали – Чуковскому досталось даже от Ленина, заметившего мимоходом в «Наших упразднителях», что критик «лягал марксизм», а Троцкий посвятил нашему герою длиннейшую громокипящую главу в своем труде «Проблемы культуры» (1914). А вот после революции терпеть такие взгляды уже никто не собирался, и о своем критическом призвании Чуковскому пришлось навсегда забыть.
Одной из примет послереволюционной России стало бурное раскрепощение плоти: «„Проклятые“ вопросы, как дым от папиросы, / Рассеялись во мгле, / Пришла Проблема пола, румяная фефела, / И ржет навеселе». Саша Черный, естественно.
Не успели остыть угли социальной революции, как вспыхнула революция сексуальная. Ее даже можно датировать и записать в учебники обществоведения: первая русская сексуальная революция 1907–1908 годов. Не в том, пожалуй, дело, что общество хотело свободы; скорее оно просто устало от постоянно навязываемых ему канонов сурового подвига, самопожертвования, альтруистической любви. Канонов, в которых оно разочаровалось, постулатов, в которые оно больше не верило, идей, которые успели надоесть, – так к позднему застою в Советском Союзе устали от строительства коммунизма. И точно так же еще до свободы экономической и законодательной в стране восторжествовала свобода сексуальная. В 1908 году Чуковский писал в «Идейной порнографии»: «Это было душевное ощущение интеллигентской России, которая вся, всеми своими книжками, брошюрами, всеми словами и всеми действиями вдруг заявила:
– Долой, долой кожаный мешок «направленства»! Не хочу сидеть в кожаном мешке, хочу погулять на свободе.
И бросилась вон из мешка».
И тогда же Чуковский предупреждал, и только сейчас мы понимаем, насколько важно было услышать это его предупреждение: «Свобода, конечно, хорошая вещь, но выдержим ли мы эту свободу? Достаточно ли мы сильны для этой свободы – чтобы на свой собственный страх жить вне всяких партийных рамок, ходить без направлений, творить без программы?»
Оказалось, сильны были недостаточно. Интеллигенция предалась апатии; разочаровавшись в идеалах, – заговорила о красоте порока; разочаровавшись в религии, – увлеклась культами, жертвенниками, треножниками, радениями и каждениями. Занялась мистериями, зашепталась об оргиях, началось обжорство, распутство, швыряние денег, мистические искания. Девушки задались вопросом, с какой стати им блюсти себя. Писатели, кажется, тоже. Все взялись раскрепощать плоть: Кузмин писал о гомосексуализме, Сергеев-Ценский – о некрофилии, Арцыбашев – о свободной любви, Зиновьева-Аннибал – о любви лесбийской.
Вот, к примеру, недавно было опубликован сборник дамской эротической прозы конца 1900-х «В поисках ощущений»: «Тридцать три урода» Зиновьевой-Аннибал, непостижимо дурновкусная «Вакханка» бессмертной Чарской и некто Альга с повестью, давшей имя сборнику. Первые два имени широко известны, Альгу ни история русской литературы, ни критика не помнят, Чуковский тоже такой не замечал; между тем ее банальная, вялая, «травянистая» проза словно нарочно сконструирована по шаблону, многократно им описанному в статьях; шаблону, которым пользовались и Каменский, и Арцыбашев, и прочие мелкие герои фронта эротической прозы, имя же им легион. Всех нынче издают со сладострастным удовольствием, полуприличными картинками на обложке и без какого-либо историко-литературоведческого комментария.