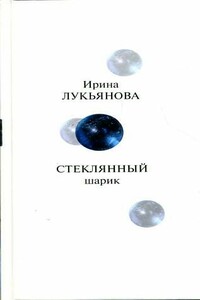Это была та самая «Россия, которую мы потеряли» – та, что безвозвратно кончилась с началом Первой мировой войны. После перестройки ее стали представлять каким-то конфетно-бараночным царством с изобильными рынками, заговорили о благочестии крестьян, меценатстве просвещенного купечества, благородстве офицерства («Весь досрочный выпуск кадетского корпуса с восторгом принял известие о назначении всех поручиков в карательные отряды», – однажды процитировал Чуковский газету 1905 года). Чем дальше это время уходит в историю, тем больше появляется подобных мифологем. Мы сейчас воспринимаем это время как небывалый расцвет – а современники говорили о распаде и упадке. И не только те, кто твердил о вырождении и ругался словом «декадент».
В стране стало трудно дышать, душами завладела тоска, воздух все сгущался и плотнел. Неизбывной тоской пронизано едва ли не каждое значимое литературное произведение 1907–1910 годов – глубокой экзистенциальной тоской людей, которые еще не знали слова «экзистенциализм», но уже мучились вполне сартровой тошнотой. А в конце 1908 года чуткий Блок произнес: «вокруг уже господствует тьма». Ниточки от нашего «глухого времени реакции» тянутся не только к экзистенциализму, но и дальше – к постмодернизму, как европейскому, так и русскому; к жестокой ситуации тотального цинизма, иронии, игры в литературе конца уже двадцатого века, оказавшейся в той же внезапной ценностной пустоте.
Социальная тема перестала наполнять национальную культуру, стержень традиционной религиозной нравственности ослаб в ней еще раньше; гуманистический пафос во время неверия в человека тоже иссяк. Провалился всякий фундамент, рухнуло все, что держало великую русскую литературу. Еще стояли крепкими башнями серьезные литературные журналы «с направлением», искренне считавшие себя наследниками великих традиций, но не те уже были защитники у твердынь, не те стали силы, жизнь и талант уходили оттуда. Литература затосковала, стала зачарованно вглядываться в смерть. Ее уже не так занимали даже богоискательство, богоборчество, поиски смысла. «Чую с гибельным восторгом – пропадаю!» – было сказано куда позже и по другому поводу, но, как ни странно, настроение русской интеллигенции к концу 1900-х годов выражает точно. О том же «самозабвении восторга и самозабвении тоски, отчаянья, безразличия» говорил Блок, у которого в «Народе и интеллигенции» возникает даже образ бешено несущегося коня. Птицу-тройку неудержимо несло к катастрофе, а литература с гибельным восторгом созерцала приближение неминуемого, мефистофельски хохоча.
На смену авторитетному утверждению пришли сомнения и эмоциональное отрицание. Пафос сменился цинизмом, проповедь – литературными играми. Явилась неизбежная во времена крушения ценностных парадигм «проблема пола», опустевшее святое место густо заросло махровой пошлостью.
Чуковский внимательно наблюдал за происходящим и пытался его осмыслить. Художественная интуиция у него была огромна, но академических знаний, нужных для этого осмысления, ему отчаянно не хватало. До всего приходилось доходить собственным умом и бесконечным трудом. К тому же значительная часть работ, нужных для понимания момента, вообще еще не была написана – и одесскому самоучке предстояло стать одним из первооткрывателей в российской культурологии.
Молодая пара с малышом появилась в Куоккале на Балтийском заливе осенью 1906 года. Именно этим временем датируют переезд Марианна Шаскольская в летописи жизни Чуковского и Лидия Корнеевна в «Памяти детства». Есть предположения, что критик впервые оказался в финском поселке годом раньше, однако документальными подтверждениями этого мы не располагаем. Сам Корней Иванович писал «в 1907 или 1908», но особенно полагаться на его свидетельство не стоит: он чрезвычайно скрупулезно относился к датировке событий в жизни своих героев, литераторов-шестидесятников, но, говоря о себе, называл даты очень приблизительно.
Очень может быть, что осенний выезд на дачу был связан с тем, что гонорары Чуковского в мелкой прессе не позволяли ему платить за квартиру в столице и содержать семью. Аренда дома в дачном поселке в несезон обходилась дешевле. «Деревянный домишко, над которым торчала несуразная башенка с разноцветными, наполовину разбитыми стеклами», – так описывает Чуковский свое первое куоккальское жилье. Башенка над дачей была почти обязательным элементом архитектуры: их придумали, чтобы из их окон было видно море. Увенчанные причудливыми шпилями, они присутствуют на множестве старых фотографий. Впрочем, первое жилье К. И. располагалось далеко от моря. Тогдашние путеводители извещают: лучшие дачи находятся на первой береговой линии, снять их – довольно дорого. Чем дальше от берега, тем дешевле, затем местность разделяет железная дорога, к северу от нее дачи еще дешевле, а дороги хуже. К северу от станции и поселился молодой безденежный журналист – даже не в самой Куоккале, а в финской деревушке