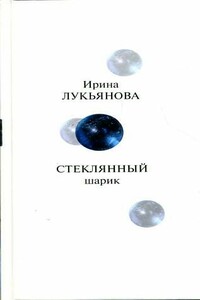Чуковского-критика часто упрекали в том, что он «не открыл ни одного нового таланта». Читая позднюю критику К. И., невольно вспоминаешь его ответ на предложение некой вузовской преподавательницы почитать ее студентам неопубликованного Блока: да они и опубликованного-то не читали…
Последние статьи Чуковского – о Зощенко, об Ахматовой, о Пастернаке открывают для общества не новые таланты, а неоцененное классическое наследие, которым это общество не сумело распорядиться; они расставляют нужные акценты и ставят на место сдвинутую историческую и литературную перспективу.
Издательство, конечно, не могло согласиться на то, чтобы вот прямо так сразу и заявить читателю безоговорочно, что Пастернак гениальный поэт. Оно сочло необходимым вставить в предисловие несколько слов о «сложном и противоречивом пути» Пастернака; Чуковский сам совсем недавно издевался в «Живом как жизнь» над этим стандартным биографическим клише: "Если биографу какого-нибудь большого писателя почему-либо нравятся его позднейшие вещи и не нравятся ранние, биограф непременно напишет, что этот писатель «проделал сложный и противоречивый путь». Идет ли речь о Роберте Фросте, или о Томасе Манне, или об Уолте Уитмене, или об Александре Блоке, или об Илье Эренбурге, или о Валерии Брюсове, или об Иване Шмелеве, или о Викторе Шкловском, можно предсказать, не боясь ошибиться, что на первой же странице вы непременно найдете эту убогую формулу, словно фиолетовый штамп, поставленный милицией в паспорте:
«сложный и противоречивый путь»".
«Предисловие правлено кем-то, и в него введено даже ненавистное мне слово „показ“», – сердился К. И. Он, разумеется, отказался принять требования издательства: сейчас заставить его делать то, чего делать не хочется, было уже очень трудно. Тогда томик снабдили послесловием Николая Банникова: тот повествовал о «заблуждениях и горестных ошибках» Пастернака, его «общественной отгороженности и обособленности». Чуковский в дневнике пишет о Банникове без злости, замечая даже, что тот обожает Пастернака – «он написал несколько хороших страниц – но потом все же ругнул „Доктора Живаго“, упомянул о порочных идейных позициях Пастернака <…>. И чуть он, Банников, стал брехуном, ему изменил даже стиль».
Литературные дела по-прежнему решаются в ЦК КПСС, и в эту последнюю инстанцию, к председателю идеологической комиссии приходится обращаться регулярно. Чуковский писал туда и по поводу публикации предисловия к тому Пастернака, и о предоставлении квартиры Солженицыну (под просьбой дать писателю жилье в Москве подписались, кроме К. И., Паустовский, Шостакович, Петр Капица и Сергей Смирнов; через две недели Солженицыну дали квартиру в Рязани, о чем, собственно, никто и не просил).
Ударил новый заморозок, это все понимали. Но после оттепели смириться с необходимостью молчать и терпеть было уже невозможно; более того – появилось немыслимое для предыдущих десятилетий ощущение, что от власти можно чего-то добиться; что твой голос что-то значит, твое письмо может что-то изменить. Чуковский, однако, не был борцом с режимом; он вмешивался, когда нужно было пустить в ход авторитет и влияние, он заступался, он требовал, просил, убеждал… но не политика занимала его. «Идеологически он сочувствовал всем, но не рвался в бой, – говорит Анна Дмитриева, жена Дмитрия Чуковского. – Его привлекали в критических случаях – Лидия Корнеевна, Татьяна Максимовна Литвинова… Он сам говорил: „Я шляпка гвоздя, который вбивают в эту доску“». Письма Лидии Корнеевны к отцу в 60-х изобилуют вежливыми, но настойчивыми просьбами и напоминаниями: «я так понимаю, что было бы хорошо, если бы ты что-нибудь ответил»; «делом этим активно занимаются человек 7 – и все-таки опять нужен будешь ты (когда встанешь)»; «А Фридочку ты не видел еще?» (речь о дневниках Фриды Вигдоровой); "и все эти прелести при условии, что ты сейчас пришлешь им маленькую записочку"…
В новый год Оксман поздравил Чуковского и послал ему стихи Гёте в тютчевском переводе («Два голоса»):
"Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!"