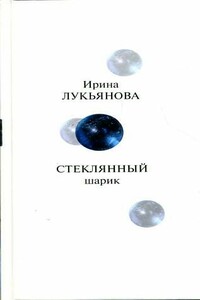«Живаго», которого Чуковский не прочитал толком, не дочитал, забыл, не хотел читать заново (чтобы не волноваться? чтобы не разочаровываться в авторе? или это, сказанное Зинаиде Николаевне Пастернак: «Нет, я не читаю сенсационных книг») – не нравился ему и не мог понравиться – кроме, конечно, пресловутых гениальных пейзажей. Не близок ему был условный, странный роман Пастернака, построенный на допущениях, совпадениях, приближениях, хаотичный и громадный; это была не точная, емкая, пушкинская «проза поэта», а совсем другая. Недаром Лидия Корнеевна сравнивала сам поток речи Пастернака со стихией – водопадом, облаками: «Словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой; зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно: они шли, подобные облакам, которые только что напоминали глазу гряду скал, а через секунду превращались в слона или змею».
«Живаго» не нравился и Ахматовой, воспитанной на тех же представлениях о литературе, что и К. И. «Борис провалился в себя. От того и роман плох, кроме пейзажей. По совести говоря, ведь это гоголевская неудача – второй том „Мертвых душ“!.. оттого же в такое жестоко-трудное положение он поставил своих близких и своих товарищей», – приводит в своих «Записках» ее слова Лидия Корнеевна. Аналогия Ахматовой точна: по жанру «Доктор» приближался именно к поэме, и судить ее по традиционным романным канонам было бессмысленно, – но и Ахматова, и Чуковский выросли на классической русской реалистической прозе, в которой гоголевская традиция надолго осталась невостребованной. У Гоголя научились надрыву и социальной сатире «Петербургских повестей» – но эпическая поэзия «Мертвых душ» обрела продолжателей лишь в XX веке, и имена Пастернака и Андрея Платонова тут, безусловно, первые. Эта проза требовала другого восприятия – Чуковский почти никак не отреагировал на своего великого современника Платонова и не оценил новаторское письмо Пастернака.
«У меня с Пастернаком – отношения неловкие: я люблю некоторые его стихотворения, но не люблю иных его переводов и не люблю его романа „Доктор Живаго“, который знаю лишь по первой части, читанной давно. Он же говорит со мной так, будто бы я безусловный поклонник всего его творчества, и я из какой-то глупой вежливости не говорю ему своего отношения», – огорченно пишет Чуковский в дневнике.
«Доктор Живаго» вопиюще не соответствовал требованиям, которые Чуковский предъявлял к литературе: «вяло, эгоцентрично», сыро, неорганизованно, сенсационно, с политическими намеками – зачем, зачем он, автор божественного «Августа» и прекрасной «Больницы» – зачем написал, зачем опубликовал на Западе, зачем не остерегается, зачем специально лезет на рожон? Убьют, затопчут, растерзают, – зачем приносить себя в жертву, бессмысленную, очередную, ненужную?
Он волнуется за Пастернака, предвидя трагедию: тучи стягиваются над головой поэта, а тому, кажется, и дела нет. В июне, узнав от Кассиля, что Пастернак собирается выступать в Доме творчества, – бежит предупредить Бориса Леонидовича: Дом кишит «шушерой», из чтения получится только скандал!
У Чуковского (и не у него одного, конечно) обостренно – как интуиция, как художественное чутье – было развито и оттренировано за долгие годы некое шестое чувство, которое мы позволим себе условно назвать «чувством власти» – то самое чувство, которое позволяет в любом тексте безошибочно угадывать фальшь и признаки редакторского и цензурного насилия; чувство, которое дает возможность легко читать между строк, расшифровывать авторские полунамеки, которое помогает различить обещания новых бедствий в корявых казенных формулах, заключенных в злобные кавычки. Шестым этим чувством он легко уловил надвигающуюся катастрофу – и пытался уберечь Пастернака от уничтожения.
Только что Чуковский несколько раз встретился с Зощенко, который произвел на него тягостное впечатление: не слышит собеседника, говорит невпопад, не то, не так, – страшен, замучен, «заколоченный в гроб». В дневнике появилась запись:
"Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски сдавлены внутрь, – и этот потухший взгляд!