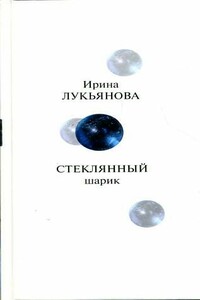Он и сам понимал, что не дотягивает до избранного высокого образца, что ему не хватает ни поэтической мощи, ни силы обобщения, что лишь отдельные фрагменты поэмы вообще имеют право на существование.
Чуковский заболел пушкинским «Онегиным» в ранней юности – похоже, еще в гимназии. Как этот роман умеет не отпускать, знает каждый филолог – едва ли не всякий профессионально пишущий по-русски пытался в старших классах создать своего «Онегина», как и свое «Кому на Руси жить хорошо». До Чуковского попытки продолжить пушкинский роман или написать свой совершались несколько раз, самые заметные сделаны Дмитрием Минаевым (1865), Lolo – Леоном (Леонидом) Мунштейном (1896) и Константином Михайловым (1899).
Видимо, еще в гимназические времена Коля Корнейчуков создал несколько удачных строф, – а затем уже было жалко расставаться с замыслом. Весь первый вариант, написанный в 1901–1902 годах, Чуковский зачеркнул, но потом все равно вернулся к идее «Нынешнего Онегина». Дописывал он его в Англии, в 1904 году, и в том же году опубликовал в «Одесских новостях», хотя и не стал заканчивать. Потом переделал уже на петербургском материале – и снова опубликовал три года спустя, и собирался издавать отдельной книжкой…
Неужели литературный вкус на этот раз ничего не подсказал обычно беспощадному к себе и требовательному к каждой своей поэтической строке Чуковскому? Почему же, подсказывал. В дневниковой записи 1904 года он пытается взглянуть на роман глазами рецензента: «Мы никак не ожидали от г. Чуковского столь несовершенной вещи. К чему она написана? Для шутки это слишком длинно, для серьезного – это коротко. Каждое действующее лицо – как из дерева. Движения нет». Дальше воображаемый рецензент ставит автору в вину «фельетонный, бульварно-легкомысленный тон», кощунство по отношению к Пушкину – и отмечает, что «стих почти всюду легкий, ясный и сжатый» (что, кажется, несколько преувеличено). Чуть не месяц спустя опять в дневниковой записи автор долго и подробно отвечает воображаемому критику, что это не кощунство… Комментатор поэмы Мирон Петровский справедливо отмечает, что здесь предвосхищены и стиль Чуковского-критика («парадоксальное доказательство собственной мысли – через ее же опровержение»), и будущие упреки в бульварности, фельетонности и легкомысленности.
Почему же Чуковский, ясно понимая несовершенство своего произведения, все-таки не расставался с мыслью его завершить и опубликовать? Может быть, разгадка в том, что он остро чувствовал зияния в литературе – а к началу XX века русская литература, и в особенности русская поэзия, слишком много плакала и слишком мало улыбалась? Последним, кто от души в ней смеялся, вероятно, был Курочкин со своими политическими сатирами (в прозе, пожалуй, еще Антоша Чехонте); в литературное меню давно не входило шампанское. Хорошим тоном в литературе считался смех сквозь слезы, но повседневная одесская жизнь сама по себе была несовместима с преобладающими в российской словесности сумрачными тонами, неизобразима и невообразима в суровом, строгом духе русской классики. Очень скоро русская литература научилась и хихикать, и язвительно смеяться, и хохотать, надрывая животики, но пока на месте легкой, иронической, сатирической, бытовой поэзии было зияние – и Чуковский пытался сам заполнить пустоту, и так носился со своим «Онегиным», пока место было вакантно, и пытался довести его до ума. А когда появились во множестве сатирические журналы, когда вышли из печати первые стихи Саши Черного, – оставил попытки. Тем же ощущением зияния и попыткой восполнить ощутимый пробел собственными силами, реагируя на куда более насущную потребность, порожден и другой крупный поэтический провал Чуковского – сказка «Одолеем Бармалея!», о печальной судьбе которой речь еще впереди.