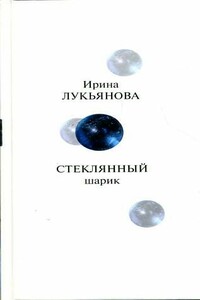Уже в начале 1918 года Корней Иванович появился в Манежном переулке у наркомпроса Луначарского. К Анатолию Васильевичу шла вся интеллигенция – с вопросами, предложениями, просьбами о помощи: все в одночасье лишились куска хлеба и искали способа себя применить. «И артисты Имп. Театров, – записывает Чуковский в дневнике, – и бывш. эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке».
Чуковский пришел с предложением переиздать для демократических масс Уитмена, «певца демократии». Луначарский не сошелся с визитером во взглядах на всемирно-историческое значение американского поэта – в его представлении, тот был куда всемирнее, чем предполагал Чуковский; наконец, Корней Иванович предложил Анатолию Васильевичу написать предисловие для книги, оно было надиктовано, и книга, предваряемая словами наркома, вышла в том же 1918 году.
В дневнике остались ехидно подмеченные подробности: Луначарский принимает посетителей по двое, и пока разговаривает с одним, другому позволяет любоваться его государственной мудростью; Луначарский обожает слушать себя и диктовать машинистке… В мемуарном очерке в «Современниках» этот герой предстает другим. Не то чтобы «в белом венчике из роз Луначарский наркомпрос», – но без этого мелочного самолюбования, замутнявшего, заслонявшего то доброе и ценное, что было в первом советском министре просвещения, действительно самом образованном из всех наркомов и министров на этом посту на многие десятилетия вперед. «Обаяние его образованности, пылкое увлечение искусством, искреннее, ненапускное уважение к людям ума и таланта» – вот о чем Чуковский считает нужным и важным рассказывать читателю. «Кокетство», «легкомысленный», «говорил заискивающе» остаются в дневниках, – хотя дневниковыми записями Корней Иванович всегда пользовался при подготовке воспоминаний.
Разумеется, в советское время было немыслимо написать о Горьком или Луначарском так, как о них говорится в дневнике К. И. Но ведь он мог и не писать вообще: никто не заставлял. Идеализированные Горький и Луначарский – не столько политический заказ или самоцензура, сколько сознательный отказ от злословия, которого немало в дневниках. Театральный пафос и экспансивность Луначарского от читателя не скрыты – они просто не выпячиваются; акценты расставлены сознательно: главное в смешном, легковесном, увлекающемся наркоме – любовь к старой культуре, к которой он «привязан тысячью ниточек», и готовность строить новую культуру на ее фундаменте. Даже разглядеть это в Луначарском не каждый мог (сравним воспоминания Чуковского, например, с отталкивающим портретом декадентствующего комиссара в «Белом коридоре» Ходасевича). Чуковский пишет здесь не о политике, министре, чиновнике, а о «душе человеческой», сложной, не сводящейся к простым «да» и «нет», неодномерной, интересной, полной полярных противоположностей – благодушный и воинственный, воск и кремень… В том, как К. И. отбирает материал для своих статей, крепко чувствуется учитель, задумавший научить своих подопечных лучшему, что может предложить человечество, показать им замечательных людей, очищенных от случайного сора, во всей их красоте и сложности.
Дневники Чуковского первых революционных дней полны искреннего, счастливого, детского изумления сродни его позднейшей «Путанице»: надо же, рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают!
Кабинет наркома, толпы посетителей – «и тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министриабельно-простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле». Комендант почт и телеграфов Царев «оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в виц-мундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного».