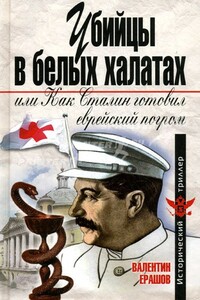Мы стояли молча.
Стоял, поскрипывая зубами, Нагуманов, он смотрел и не знал, что через две недели и ему зачитают приговор: за преступную халатность, приведшую К разложению дисциплины во вверенном подразделении — разжаловать, осудить к восьми годам лишения свободы, — и отправят в Сибирь, на такой же лесоповал.
Глядел Кострицын, для такого случая выбритый и подтянутый, ему-то бояться нечего было, ведь он проявил принципиальность, политическую зрелость, поддержал полковника из контрразведки, теперь Кострицын тихо дослужит и вернется в Пензу, так полагал он, не ведая, что поздней осенью, когда будет сопровождать до Москвы эшелон с бывшими штрафниками, демобилизованными наконец, — его, человека, умевшего казаться незлым и справедливым, вышвырнут на ходу из вагона, припомнив и Матюхина — о ночном разговоре в халабудке контрразведчика узнают все, — и пощечину, которой наградит он в пути бывшего солдата.
Держался в стороне за ствол осинки Леша Авдеев. И он тоже не мог предугадать своей судьбы, хотя знал, на что идет. А ждал его тоже суд — правда, офицерской чести, поскольку трибунальцы не пожелали обострять ситуацию — и ждала партийная комиссия. Лешу вытурят, в запас без пенсии по ранениям и без партийного билета, он станет мыкаться и спиваться потихоньку.
Щерился балагур и стукач Виктор Старостин, веселый малый, похожий на студента, пострадавший «за любовь», а на самом деле за пьянку на боевом дежурстве. Это он, осердясь, что Матюхин не поделился деревенской снедью, запросто выдал его своему шефу Прокусу и теперь предвкушал заслуженные тридцать сребреников и не догадывался, как жестоко и страшно будет избит сегодня ночью лишь за то, что был заседателем в суде скором и неправедном, — и, харкая кровью, недолго протянет на свете.
Тихо шепча, молился темный крестьянин из-под Каменец-Подольска, сержант хозяйственного взвода Губаревич, благодарил Бога: не допустил, чтобы ему, Михасю Губаревичу, пришлось взять грех на душу и расстрелять Матюхина.
Опустив пистолет, глядел на распростертое тело и содрогался от ненависти за тот плевок в лицо майор Прокус, метивший на повышение, исправный слуга. Он дождется повышения, но впереди будет пятьдесят третий год — что принесет он и полковнику, и Прокусу, и другим прокусам, они пока и вообразить не могли.
Смотрел, заставляя себя не опускать глаза и запомнить, вежливый, тихий Этинген, уже охлестнутый взглядами стукачей, уже загодя приговоренный — пока лишь к пятнадцати суткам в освободившейся после Матюхина яме, а после — к недалекому времени разгрома космополитов, когда ему и миллионам соплеменников кричали слово «жид» не только полуграмотные матюхины. И не столько они.
Стоял, унимая дрожь, и я — смотрел на первую увиденную мною смерть, на первый настоящий и столь страшный произвол… Я — я тоже что знал в жизни наперед, как она станет меня казнить… А если бы знал — разве под силу мне было изменить ее, сделать такою, какой хотел. Да и знал ли я, какой жизни я хотел для себя…
Строй распустили, наконец, и батальон отказался от завтрака, весь как один. Даже те, кто не прочь был перекусить после спектакля, — не насмелились.
И лишь Прокус — видел я, — проводив полковника и трибунальцев с отоспавшимся (на казни он присутствовать не пожелал) прокурором, направился к офицерской столовой под навесом. Я представил, как он будет ломать хлеб этими своими руками, — тогда вот меня и вырвало наконец, вырвало жестоко, наизворот.
1968 г.