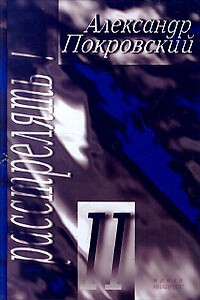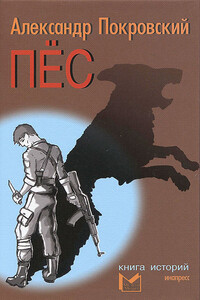А искры у него сыпались на рубашку, маслянистую от собственных мичманских жиров.
Точил он долго, – не для себя, понятно, для командира, – а вспыхнул только тогда, когда набрал в отсеке кислорода побольше.
Процентов сорок было, не меньше.
Мичман бегал по отсеку живым факелом и всё поджигал.
Сгорели все, кто был в корме.
Те, кто выжил, говорили, что горел воздух.
Его пытались посадить, но не получилось.
Я смотрю на его волевой подбородок, на губы – они у него в сливочном масле – и чувствую, как во мне встает комок. Он говорит чего-то, губы шевелятся, а я не слышу. Я только бормочу про себя: «Сука безграмотная, бестолочь. Двоечник проклятый. Понаберут в командиры вот таких вот сук, а он, кроме как над людьми измываться, ни на что не способен. Хотя нет, способен. Он ещё способен высшему командованию жопу лизать и говорить везде: «Так точно! Выполним! Сделаем! Родина! Костьми ляжем!» – Сам-то он костьми не ляжет. Дерьмо вонючее».
Через десять минут меня в туалете рвало. Потом я помылся, посмотрел на себя в зеркало и подумал: «Чего это я? Только третьи сутки похода».
– Я списаться хочу. Подчистую, – сказал мне Слава Панов.
На дворе у нас 1980 год, а он хочет списаться.
С плавсостава, естественно. Мы с ним на лодках служим уже десятый год, и ему эта катавасия слегка поднадоела.
По-другому с лодок не уйти. Он пытался, но ему сказали: «А куда вы собрались уходить? Вы же здоровы! У вас даже язвы нет!»
– Ах, так! – сказал он на это и решил уходить через сумасшествие (не по дискредитации же высокого офицерского звания).
Срать под себя он не стал. Он на программе «Время» в телевизор выстрелил. Прямо диктору в лицо. Стоял дежурным по казармам, проверял выполнение личным составом вечернего распорядка дня, зашел в ленкомнату и там разрядил пистолет.
После чего его в больницу направили, а меня назначили его сопровождать.
Честно говоря, на моей памяти по шумам в голове только один списался, да и тот был летун – летчик, проще говоря. Он на медосмотре на неосторожное врача: «Как вы себя чувствуете?» – сказал: «Хорошо, доктор! Небо люблю! И летать хочется! А ещё у меня мечта есть: взлететь повыше, открыть крышку, на крыло вылезти и постоять!»
Вот за это списали. А за стрельбу по диктору – сомневаюсь я.
Мы, как вошли к врачу, я, чтоб как-то поучаствовать, протягивая ему бумажку, где все про Славу было написано, сказал: «И ещё меня просили узнать, как его зрачки реагируют на свет!»
Черт знает, зачем я это спросил. Само выскочило, но врач – хоть бы дрогнул – «Сейчас, – говорит, – выясним. Садитесь, пожалуйста».
Усадил он Славу и говорит:
– Есть у вас заветная мечта?
– Есть!
– Какая?
– Повесить старпома!
– За что?
– За яйца!
– Все, – говорит мне доктор, – совершенно нормальный офицер.
– Почему, – спрашиваю я.
– Потому что он хочет повесить старпома. Все нормальные офицеры хотят повесить старпома. А когда я спрашиваю за что он его хочет повесить, нормальный офицер отвечает: «За яйца!». Это и есть тест на нормальность. Кстати, вы хотели выяснить, как у него зрачки реагируют на свет?
– Да-а-а…
– Идеально они у него реагируют, идеально.
Потом мы со Славой вышли.
Я-то давно уволился, по двум падениям в обморок, а Слава до сих пор служит.
В двух словах.
Корабельное учение.
00. 00 – Начало учебной тревоги и учения…
03. 00 – Конец учебной тревоги и учения…
03. 01 – Начало перекура в курилке.
В курилке сразу же после отбоя тревоги, ещё команды «от мест отойти» не было, уже сидят: старший на борту, командир, зам и все прочие, имеющие отношение.
Сидят, с обсуждением деталей, а народ стоит и ждет, естественно, пока освободится курилка.
Народ стоит в коридоре на нижней палубе, где находится выключатель дифферентометра, и один из матросиков – щелк-щелк выключателем. Включает и выключает прибор, то есть от скуки балуется.
04. 00 Курилка освободилась, очередь пошла – щелк! – в нижнее положение (вырубил). – «Ну, ты идешь!» – «Да!» – и пошел в курилку, забыв врубить.
04. 05 – Дифферентометр обесточен и остается в 1-ом градусе на погружение.
04. 10 – Автоматика начинает отрабатывать «на всплытие», но дифферент-то, что называется «в минусе».