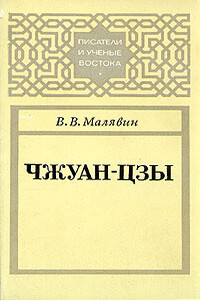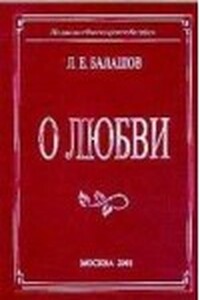Конфуций - страница 13
Конечно, такая книга просто обречена произвести на разум, питающийся «чистым созерцанием», впечатление неразвитости и бесплодия мысли. Как похож Конфуций из «Бесед и суждений» на принадлежащий Гегелю портрет «примитивного мыслителя», своего рода «недоразвитого» философа, который, «хотя и знает в совершенстве, чего требует жизнь, что именно является ее существенным свойством, связывающим людей и движущим ими, все же не может ни формулировать во всеобщих правилах это свойство для самого себя, ни передать его другим в общих размышлениях, а всегда уясняет себе и другим то, что наполняет его сознание, рассказами о частных случаях, показательными примерами и т. д….» Для европейца XIX века очевидным признаком отсталости Конфуция была его неспособность подняться до «общих размышлений». В новейший период человеческой истории, порядком разуверившийся в «общих размышлениях», но все еще прельщенный выгодами умственных абстракций, такого рода хаотическая композиция «Бесед…» порой рождает соблазн искать в ней какой-нибудь тайный, закодированный смысл, отчего-то утаенный от читателя хитроумными составителями книги. По правде говоря, не очень-то верится в плодотворность таких изысканий…
Высказывания Конфуция часто называют афоризмами, но нужно сразу оговориться, что в них нет ничего от салонного остроумия с его позерством, софистикой, игривым морализаторством. Конфуций слишком искренен и серьезен, чтобы размениваться на такие пустяки. Он изрекает как будто бы очевидные, даже банальные истины, но его слова заставляют вглядеться заново в жизнь, текущую вокруг и сквозь нас. Только гении обладают привилегией открывать жизнь заново. В первом же параграфе «Бесед и суждений» мы читаем:
«Учиться и во всякое время претворять это – разве не радостно? Увидеться с другом, приехавшим издалека, – разве не удовольствие? Люди его не знают, а он не печалится – ну не благородный ли муж?»
Эти высказывания Конфуция принимаешь не просто умом, а всем сердцем. Они кажутся родными и понятными. С ними соглашаешься с какой-то радостной легкостью, словно они и вправду открывают давно известную, самую важную, но только забытую в сутолоке дней правду жизни.
Вчитаемся непредвзято в это собрание осколков очарованной памяти, и перед нами возникнет не образ изощренного ума, раскладывающего свой секретный пасьянс из готовых фраз, но образы скромных учеников, движимых простодушным, даже слегка наивным и по-своему возвышенным стремлением сберечь до последних подробностей драгоценный образ Учителя; стремлением, предполагающим возможность добавлять в копилку предания все новые и новые свидетельства. Этим ученикам дороги каждое слово и каждый поступок наставника, для них в его жизни нет ничего незначительного – и это счастливо спасает их от мнимой многозначительности. Они не стремятся изобразить любимого Учителя непременно героем или святым, не скрывают, что при жизни он не был избалован почестями и что многие считали его простаком и неудачником. Они создали самый ранний в истории человечества портрет человека. Портрет настолько неприукрашенный, что кажется иногда даже не портретом, а как бы словесным слепком своего прототипа, явленным, подобно настоящему отпечатку тела на бумаге, в хаотической россыпи пятен, штрихов, нюансов тона. Как всякий след, этот слепок не имеет внешнего сходства с телом, его оставившим, и все же он глубоко интимен ему по самому качеству своего присутствия. Перед нами возникает образ человека, как бы разрастающегося в людях и поколениях. Этого человека мало понимать. С ним нужно жизнь прожить – долгую, углубленную жизнь.