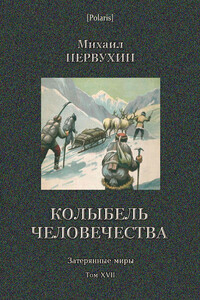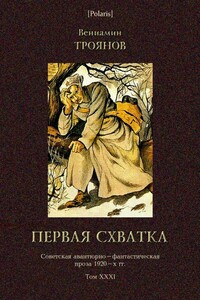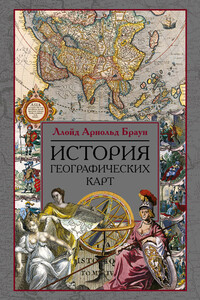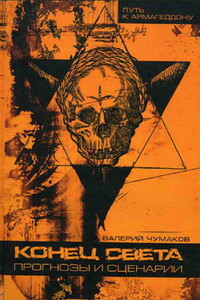В состоянии неведения я пробыл, впрочем, недолго, всего несколько секунд, пока не увидел Нину на другой кровати. Тогда я все припомнил, немножко закручинился и в таком настроении посидел некоторое время. Затем, найдя, что я уже достаточно погоревал, встал и начал искать, где бы умыться. В номере воды не оказалось. Я отправился в кухню к водопроводному крану. Нашел я и кухню, нашел и кран, но воды и там не оказалось; я сначала очень рассердился на водопроводную комиссию, но потом сообразил, что воды в кране уже никогда не будет.
Тогда я пошел бродить по номерам и в одном из них нашел умывальник, полный воды. Теперь не хватало только полотенца, но и его я отыскал в комоде в конурке, служившей, очевидно, пристанищем прислуги.
Основательно умывшись, я пошел будить Нину. Она сначала все отмахивалась, но наконец пришла в чувство, вскочила и немедленно задала мне вопрос:
— Ну, что ж теперь делать?
Я многозначительно высморкался и после некоторого раздумья сообщил ей, что остается одно: умыться. Это мало утешило Нину, но она признала полную основательность моего вывода. Сопутствуемая мною и моими указаниями, она привела в порядок свою физиономию и волосы, а затем, потребовав моего удаления, и платье.
Затем я так же, как и третьего дня, отправился на рекогносцировку. Нашлась и здесь колбасная, а в ней целый, даже непочатый окорок вареной ветчины; было там и еще кой-что, но мне показалось, что довольно и окорока. Но дороге я забрел и в булочную и нашел там много хлеба, очень, правда, черствого; но, понятно, я отнесся к этому явлению самым равнодушным образом.
Нагрузившись провиантом, я возвратился к Нине. Нашли мы и самовары (чуть не десяток), уголь, и чай, и сахар, поставили самовар и стали распивать чай, поглощая ветчину целыми ломтями. Очень вкусным показалось нам такое препровождение времени.
Но есть предел всему, даже аппетиту людей, не евших более суток. Мы набили свои желудки до пределов невозможного и сочли долгом отдохнуть. Возлегши на кровати в лучшем из номеров, мы стали заниматься приятными разговорами.
Теперь даже грозное будущее показалось нам в более розовом свете. Мы высказали твердую уверенность, что должны быть еще поезда, что нас так не оставят и, набираясь понемногу светлых надежд, решили, что, вероятно, поезд уже тут. Надо было сходить, посмотреть! Сейчас же мы снялись со своих удобных мест и отправились в путь.
Но увы! На Варшавском вокзале погром уже кончился, и народ расходился после представления. О поездах не было, конечно, ни слуху, ни духу. Мы отправились на Николаевский вокзал.
На Знаменской площади босой субъект с всклокоченными волосами и открытой грудью взлез на телегу и зычным трагическим голосом проповедовал собравшемуся вокруг него народу. Мы из любопытства подошли послушать.
— Летит ангел Господень с огненным мечом, летит и как ударит! Как полыснет, так и расступится земля, и полетим мы в геенну огненную. Ух! Вот он, Страшный суд-то! И станут нас пытать-спрашивать: что вы делали, зачем грешили, псы смердящие? Ох, жарко будет там! Покайтеся, православные! Ниц, падите ниц, и отверзите сердца своя! Пред Господом надо предстать с покаянием. Все он, Милостивец, знает, что и мы забыли. Ты, небось, забыла! — бросил вдруг проповедник бабе, внимавшей ему с дрожью.
Та вдруг как завопит:
— Ой, жжет мою душеньку, жжет, вот так и пылаить! Окаянная моя голова: сгубила я робеночка. Своим рукам задушила, в речку бросила…
— У, лютая грешница! — гремел проповедник. — Не будет тебе прощения!..
— Ой, не будет, не будет! Так у него, родненького моего, глазки и закатилися, давнула я, а они и закатилися…
Глядя на нее, и другие бабы стали голосить. Дальше уж мы не могли выдержать и поскорее ушли, чтобы не слышать этих визгливых воплей отчаяния, этих выкликаний, режущих душу и бьющих по нервам стопудовым молотом.
На Николаевском вокзале была мерзость запустения. Народ уже разошелся, и только несколько десятков еще уповающих устроились в комнатах без окон и дверей, время от времени выбегая на платформу при всяком подозрительном шуме и устремляя взоры в сторону Американского моста.