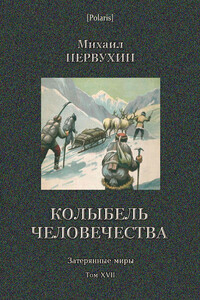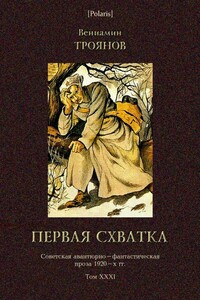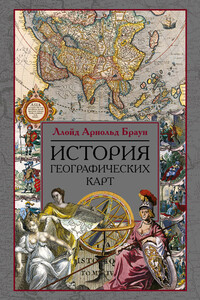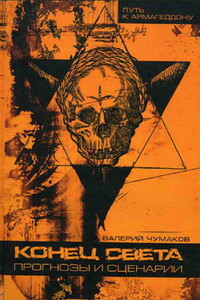Мы ходили в богатейших кафтанах с некоторыми изъянами, пели тоже с изъянами; кубки звенели, как деревянные, артисты пили из них воздух до дна, но публика этого не знала или не хотела знать и была довольна.
Даже то, что парикмахер, по случаю праздника и запоя, не изволил явиться, не повергло никого в отчаяние; только премьерша хотела было сделать сцену, как это она будет играть русскую боярышню без косы, но пораздумала, что из ссоры все-таки косы не выйдет, и успокоилась, а когда успокоилась, то нашла косу у одной из артисток, великодушно уступившей ей на время спектакля собственную привязную. Что касается нас, мужчин, то храбрости нашей не было пределов, и мы играли бояр XVI столетия без бород; т. е. на подбородках было что-то напачкано, но принять это за бороду или хоти бы бородку могло лишь очень пылкое воображение: вблизи мы выглядели небритыми уж с месяц.
Дамы наши имели хлопот полон рот; во-первых, примерка платьев, во-вторых, устройство кос, кокошников, приспособление лент, фаты, но главное: гримировка, гримировка! Сначала их гримировала Нина, потом они побежали мешать Пете, потом Роберту Алексеевичу. И все их намазывали и подмазывали!
Но Феле и этого было мало: она устроилась со своим зеркалом в уборной и начала еще самостоятельно подводить себе глаза; так как последние у нее и без того с блюдечко, то вскоре от Фелиного лица остались только две громадные черные впадины. Я потом уверял ее, будто в публике ужасались: «Смотрите, смотрите, вон глаза в сарафане». Феля сердилась, укоряла меня в преувеличении, но все-таки несколько уменьшила черные круги вокруг глаз.
В общем, однако, и она, и все наши дамы выглядели очень мило. Премьерше и Татьяне Ивановне кокошник и прочее очень шли, и они были типичными русскими боярышнями XVI века и крупного телосложения.
Но Вера в сарафане и кокошнике была просто прелестна, так что один из артистов, предполагая, что она состоит еще в девицах, находился больше возле нее и говорил ей разные комплименты и даже стихотворения, стараясь поразить своим даром чтения. Не произведя, однако, никакого эффекта и узнав (как рассказывала потом Вера), что она замужем, любезный артист, бросив неприязненный взгляд на мою сравнительно довольно внушительную фигуру, извинился, что ему нужно в буфет, куда и скрылся. Впрочем, если он сделал это из опасения за свои ребра, то совершенно напрасно: несмотря на его высокое мнение о своей наружности, обаятельности и искусстве чтения, я нисколько не опасался такого соперника.
Всем вообще театральная деятельность очень понравилась. Мы еще раз гастролировали с большим, по словам Пети, успехом, т. е. не забыли от страха роли, смотрели, куда следовало, и распоряжались руками и ногами почти свободно.
Собирались играть еще; но неуклонное течение событий сразу прекратило наши попытки стать заправскими жрецами Мельпомены.
Сойдя однажды после службы в раздевальную, я встретился с Ниной Сергеевной, моей сослуживицей, но по другому отделу правления. Оказалось, что нам обоим дорога в Лесной, и мы, конечно, отправились вместе.
Сначала перекидывались незначительными замечаниями: похвалили погоду, пожаловались друг другу, что город летом точно в осадном положении: ни пройти, ни проехать; где леса у домов, где мостовая взрыта для починки. Потом Нина Сергеевна ударилась в лирику:
— И подумать, что только еще две-три недели, и все окружающее нас, вся эта роскошная природа, может быть, будет уничтожена совсем, совсем.
— Я считал бы, Нина Сергеевна, более осторожным не употреблять эпитета «роскошная».
— Почему это?
— Какая же в Петербурге роскошная природа?
— Ну, вы — известный скептик. Но все-таки взгляните на Неву и скажите по совести, разве не красивая картина?
Я взглянул на Неву, расстилавшуюся передо мною громадным зеркалом и уходившую налево двумя широкими лентами, взглянул, вздохнул и согласился, что, по совести, красивая картина.
— И, может быть, только недели две жизни или меньше. Ну, что можно сделать в две недели?
Мой скептицизм опять воспрянул.
— А что бы вы сделали в год, в десять лет, даже во всю жизнь? Надо думать, то же, что и в две недели. Разница была бы лишь в количестве испорченной бумаги.