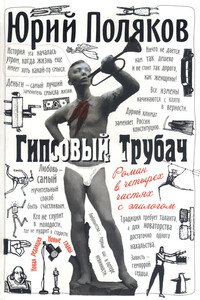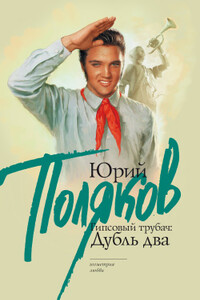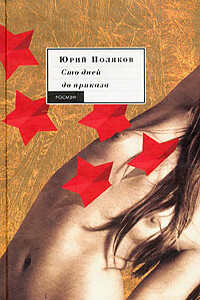И вот теперь, очнувшись, он лежал, вдыхая мучительные запахи недопознанной Натальи Павловны, и задавал себе в сотый раз один и тот же вопрос: «Почему?» Это слово, подобно страшному водовороту, втягивало в роковую воронку все остальные потоки и струйки сознания. Мозг, искавший оправдания посрамленному телу, предлагал на выбор множество причин. Первое объяснение было самым простым и грубо физиологическим: ночь, отданная накануне требовательной Валентине Никифоровне, как сказал бы Солженицын, изнеможила писодея, о чем он самонадеянно не подумал, ринувшись в расположение новой женщины. А ведь не мальчик уже, мог бы и остеречься, передохнуть. Вторая возможная причина в известной мере являлась продолжением первой. Наталья Павловна столько раз охлаждала порывы загоравшегося Кокотова (то руки мыть заставляла, то с тараканом сражалась!), что у него, образно говоря, подсел «аккумулятор любви» и в ответственную минуту просто не дал искры зажигания. Третья версия краха, предложенная пытливым умом, выглядела позатейливей, почти по Фрейду: оставив на шее пионерский галстук, Обоярова, сама того не подозревая, разбередила в бывшем вожатом запрет на любое влечение к юным воспитанницам под страхом уголовного преследования. Это педагогическое табу и сыграло с ним подлую шутку. Четвертая гипотеза снова перекладывала вину на пышные плечи Натальи Павловны. Ее столь откровенный рассказ об интимных трениях с Лапузиным и Дивочкиным вызвал у автора «Сумерек экстаза» законную ревность, которая, до поры притаясь, каким-то мстительным образом парализовала жизненно важный орган. Пятая возможная причина могла укрыться в душераздирающей истории бесплодных беременностей, особенно последней, а это тоже, согласитесь, не способствует мужской бесперебойности. Шестая версия носила откровенно гомофобский характер. Затейливая месть Лапузину с помощью Алсу на подсознательном уровне охладила традиционный пыл Кокотова. Седьмая причина: во всем виноват проклятый сон про «коитус леталис». Коварно засев в подкорке, он выстрелил именно в тот момент, когда Обоярова, решительно обнажившись и явив свое мощное лоно, призвала писодея к себе. А тут еще эта титановая шейка, заслуживающая бдительного психоанализа! Да и маленький трубач сыграл в случившемся какую-то не понятную разуму, но отвратительную мистическую роль. В очереди на осмысление в мозгу нетерпеливо томились еще несколько причин, могущих как-то объяснить непоправимое. При этом конкретный виновник ночного позора вел себя теперь, словно капризный домашний пудель, который вчера, вопреки грозным приказам, отказывался даже сидеть, а сегодня без всякой команды и надобности «служит», неутомимо стоя на задних лапах…
— Какой же ты все-таки гад! — сказал ему Андрей Львович.
И в этот момент в дверь громко постучали.
Кокотов затаился в постели, вспоминая, запер ли дверь. Больше всего не хотелось, чтобы перед деловым отъездом в Москву к нему зашла разочарованная Наталья Павловна — проведать неудачника. Он на всякий случай приготовил на лице выражение скорбной самоиронии, каким пользуются пьяницы, чтобы с достоинством показаться на людях после дебоша, оставшегося в протрезвевшей памяти в виде тошноты и гнусно мечущихся теней.
Но в комнату, не дождавшись отзыва, вошел Жарынин, неся в руках поднос с завтраком. Набрякшие мешки под глазами, крапчатый румянец на щеках да капельки пота на лысине — вот, пожалуй, и все, что напоминало о застольном геополитическом поединке, чуть не сведшем в могилу Розенблюменко и молодого его соратника Пержхайло. Игровод был бодр, решителен и полон лихорадочной энергии.
— Ешьте! Восстанавливайте силы! — сказал он, ставя поднос на тумбочку. — Татьяна навалила вам двойную порцию. Поздравляю!
— С чем?
— Как это — с чем? Все «Ипокренино» только и обсуждает вашу ночь с Лапузиной! Экий вы, оказывается, чреслоугодник!
— В каком смысле? — прошептал Кокотов, заподозрив, что его скорбная мужская неуспешность каким-то образом стала известна широкой старческой общественности.
— Не прикидывайтесь! Ящик и Злата засекли, как вы уползали от нее под утро. А старый комсомолец Бездынько из соседнего номера клянется, что таких шумных объятий не слышал со времен своей молодости, проведенной в общежитии Литературного института. А это — известный бордель, проще сохранить невинность в турпоходе, чем там! Дед даже стихи сочинил. Слушайте: