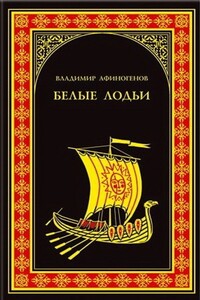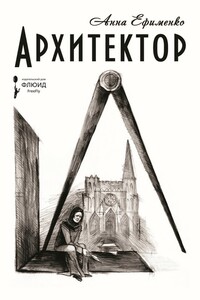Через час, когда Боброку стало лучше, наведался Алексей, бывший тогда митрополитом Всея Руси. С ним рядом шёл Дмитрий, не по годам серьёзный, с умными, всепонимающими глазами. Князь подошёл к Боброку и молча всмотрелся в суровое, мужественное, измождённое раной и дальней дорогой лицо воина. Боброк открыл глаза.
— Здравствуй, Дмитрий. Рад тебя видеть здоровым и крепким. И вас тоже, отче... Приказ выполнил, побил суздальского князя Дмитрия Константиновича, вошёл в светлый град Владимир, и теперь наш Дмитрий может утверждаться на великое княжение.
— Благодарю, — молвил Алексей. — Во избежание злобы и подлости со стороны суздальского князя, не женить ли нашего Дмитрия на его дочери Дуне? Говорят, красна девица. Мала, а умница. Как думаешь, Боброк?
В лицо московскому князю бросилась краска. Волынец, завидя это, улыбнулся:
— Рановато пока. А годика через три можно. К тому времени у нашего сокола и крылья окрепнут. Да и вообще всё тогда впору будет...
— Аминь! — заключил митрополит, улыбнулся тоже и положил на плечо князю Дмитрию руку.
Потом и сам московский князь получал раны, когда вместе с Серпуховским да Боброком выезжал воевать ростовского князя Константина, стародубского Ивана Фёдоровича и галицкого Дмитрия. А когда привёл их под свою руку, тогда и выдал суздальский князь за Дмитрия Ивановича дочь Евдокию.
Уж вроде скольких врагов обратил в бегство — страха не знал, а за свадебным столом в Коломне сидел ни жив ни мёртв. И вправду хороша была невеста в голубом повойнике на голове, усыпанном жемчугом, в косоклинном распашном сарафане, в белоснежной батистовой сорочке с кисейными кружевными рукавами. На шее алмазное ожерелье, золотые серьги в ушах.
От её красоты совсем голову потерял молодой князь, и в церкви-то, где венчал их митрополит, как во сне ходил вокруг аналоя по солнцу и вкус терпкого вина не ощущал, когда пил из большого стеклянного сосуда. Хорошо, что подсказали бросить сосуд на пол и растоптать ногой: так положено. Только неприятно как-то заскрипели под сапогом стекляшки...
Да и потом с таким же чувством, с каким давил стекло, помнил крутившихся перед глазами трёх свах: «женихову», которая невесту сватала, «погуби красу», которая после венчания Дуне косу расчёсывала, и «пухову», которая вела молодых на брачную постель...
«Да ведь я ещё Дунюшку-то свою не повидал после приезда от отца Сергия и не передал ей от него бочонок сушёной малины. Закрутился тут с этим мурзой, будь он неладен... Потерпи ещё с чуток. После бани и трапезы наведаюсь...»
И представил тихое лицо и светлый доверчивый взор её глаз, таким глазам не солжёшь, а солжёшь — не вынесешь кроткого осуждающего взгляда... «Милая моя, Евдокеюшка...»
Взглянул на мурзу:
— Ну что, Карахан, пойдём в парильню. Скажи ему об этом, Черкиз, да спроси: квас пить будет али кумысу приказать ему принести?..
Зашли в саму баню. Возле окна стояла дубовая лавка, на ней в ряд лужёные медные тазы, в которых находилось взбитое мыло, и рядом — куча берёзовых веников. И на полках, и на полу, и даже на каменке, на которую был насыпан «конопляник» — мелкий булыжник, разостланы обданные кипятком пучки мяты, донника и чебреца. Вправо от каменки ещё одна лавка, накрытая розовой шёлковой скатертью, и на ней лежали куски мыла, вехотки из морской травы, завезённые из Хаджи-Тархана, стояли туеса с подогретым, на мяте и доннике квасом, чтобы окачиваться им перед тем, как лезть на полок.
На одном лежал на животе Боброк, и его охаживал изо всех сил берёзовым веником молодец из княжеской дружины. Боброк лишь покряхтывал, да вздувались на его теле красными кручёными буграми шрамы.
Затащили и Карахана на полок, но после двух-трёх ударов веником по его спине он завопил, окатился из медного таза холодной водой и сел на каменный пол бани, тоже застланный сеном. Секиз-бей, уже научившийся искусству париться, указывая на мурзу, захохотал.
Сильна русская банька! Бросили кипятку на «конопляник», и взвился к потолку жгучий пар. Закричал тут Дмитрий Владимиру Серпуховскому:
— А ну, браток, ещё наддай парку, да пожарче! Кваску добавь для приправы. Вот так, хорошо! — кряхтел, смеялся, снова кряхтел от удовольствия, подставляя под удары берёзового веника то один бок, то другой, то спину, то живот. И на его теле вздувались шрамы, а когда уж измочалил об него два веника третий дюжий молодец, подошёл к чану с холодной водой и плеснул на себя из лужёного таза. Замотал кудлатой головой от радости и обновления.